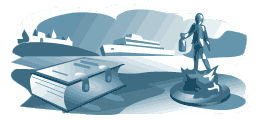"Оленька! Оля-Олюшка, вольная волюшка!
Это пишу тебе я, Никита, твой Ник, твой Том Сойер. Пишу с дальнего Крымского берега, который стал последним берегом моей жизни..."
Вот как, значит... Все бумаги сожгла прабабка, а это письмо не решилась. Или не захотела?! Рука не поднялась? Видимо, самое главное письмо.
Кинтель, привычный к старой орфографии, побежал глазами по строчкам, пестреющим "ятями", твердыми знаками и похожими на маленьких человечков "i". Будто не сам читал, а слышал дальний глуховатый голос.
"...который стал последним берегом моей жизни.
Так уж получилось. Мы не успели уйти на корабли союзников. Красные обошли нас, батарея оказалась в кольце. Два десятка солдат, два офицера – я и прапорщик Володинька Тулин, недавний юнкер. Были у нас снаряды, могли мы еще какое-то время отбиваться прямой наводкой. Но я, будучи командиром, сдал батарею.
Красные, уговаривая сдаться, обещали каждому жизнь и свободу. Я и Володинька знали, что они лгут, офицеров расстреливают безусловно. Но была надежда, что пощадят рядовых. Надеюсь на это я и сейчас, надеется и Володинька, и надежда эта согревает наши последние часы в каземате Михайловского равелина.
Нас много тут, офицеров разных полков. Мне повезло больше других. Знакомый красный командир из охраны дал мне несколько листов и карандаш. Карандаш мы с Володинькой сломали пополам, бумагу поделили. Он пишет матери, а я тебе. Письма эти наш знакомый обещает передать по адресам при первой возможности. Он славный человек, бывший поручик инженерной роты. В шестнадцатом году мы вместе лежали в госпитале в Гельсингфорсе и довольно близко сошлись. А потом разметала нас судьба по разные стороны. Теперь он чуть не со слезами предлагал мне помощь, обещал вывести отсюда сквозь посты. Я отказался. Риск для него чудовищный. Да и как бы я бросил Володиньку!
И куда бы я делся потом на этом забитом красными войсками полуострове? И во всей России, где правит свой сатанинский бал торжествующее Зло.
И еще. Сдавши врагу батарею и сделавши все, чтобы спасти от напрасной гибели подчиненных, сам я не хочу просить у судьбы милости.
Помнишь, лет пятнадцать назад, когда отмечалось полвека Севастопольской обороны, выходил в приложении к "Ниве" роман "Под щитом Севастополя"? Мы читали его выпуск за выпуском. Там описывался и давний случай с русским фрегатом, который, будучи окружен турецким флотом, спустил флаг. Мы спорили тогда с тобою. Я гневно осуждал капитана за малодушие, ты же очень жалела его и других офицеров, которых император наказал со всевозможной строгостью: лишил дворянства, отправил в арестанты и матросы. Ты говорила, что кровавая бойня без всякой надежды на спасительный выход жестока и нечеловечна. Я же сердился, считая слова эти девчоночьей слабостью... Как меняет людей война. Вот и сам я сдал батарею. И теперь думаю, что командир фрегата не прав был в одном: ведь спасши других, мог он затем кончить свою жизнь для спасения чести. Впрочем, кто смеет его судить? Возможно, он почитал своим долгом испить чашу до конца, а в самоубийстве видел грех, невозможный для христианина.
Мне такой грех не грозит. Красные возьмут это дело на себя.
Умирать не очень страшно. Такое чувство, что накопившаяся за эти годы усталость теперь навалилась разом и клонит, клонит в сон. Столько крови, столько бессмысленной ярости, столько смертей за шесть лет окопной жизни. Ты теперь не узнала бы своего капитана Ника. И я даже рад, что в памяти твоей останусь прежним. Тем полным боевого пыла мальчиком, который нетерпеливо прощался с тобой, уходя на германский фронт в четырнадцатом году. И думал, что война – это череда подвигов и блестящих побед.
Господи, какой же я был тогда ребенок. Оставил тебе карточку с засекреченным письмом вместо того, чтобы просто рассказать, как оно все было. Все еще играл. И думал, что станешь играть и ты.
А историю своего маленького клада я до сих пор вспоминаю с улыбкой. А ты ее так и не знаешь. Вот, слушай. То есть читай. О Бронзовом мальчике. Только извини, что я пишу так длинно. Ты, Олюшка, всегда меня бранила за нелюбовь к длинным письмам. Видишь, я исправился. Тем более это мой последний с тобой разговор, а впереди у меня еще несколько часов. Володинька тихонько плачет над своим письмом, жаль его. Но мне плакать не хочется. Я улыбаюсь, мысленно возвращаясь в те дни.
Помнишь, когда нам было по десять лет, мы были Том Сойер и Бекки Тэчер. Книжку про них мы читали вдвоем множество раз. И однажды ты строго сказала, что я должен поцеловать тебя. В щеку. Не потому, что тебе хочется, а чтобы все было как у Марка Твена. И это таинство свершилось в полутемном уголке вашей передней, и сердце у меня колотилось весь вечер.
А потом в лавке старьевщика на углу Корнеевской и Пароходной я увидел его. Маленького бронзового Тома Сойера – в точности такого, каким я его представлял, только ростом в два вершка. И тут же понял, что нет лучше подарка для тебя, чем этот... Сколько тряпья, костей и драных калош таскал я этому вредному скрипучему мужику, который подсмеивался над лопоухим гимназистиком и все набавлял и набавлял цену. И лишь в обмен на помятый серебряный подстаканник без ручки, который я с полным сознанием собственного греха похитил в домашнем чулане, злодей отдал мне сокровище. И я ликовал заранее, представляя, как в День твоего ангела, в июле, я со словами, полными важного смысла, вручу тебе этот талисман и как обрадуешься и расцветешь ты. И, может быть, позволишь свершиться еще одному поцелую...
Но за неделю до именин тебя увезли с дачи в город, и папа, вернувшись, сказал, что у тебя скарлатина. И добавил, чтобы я не волновался, потому что, может быть, все обойдется без осложнений. Но я тревожился отчаянно, потому что слышал от папы прежде, как опасна для детей скарлатина.
А кроме тревоги, была еще и тоска по тебе. И я, чтобы унять эту печаль и чтобы задобрить судьбу и заодно, наверно, утолить мальчишечью страсть к приключениям, задумал отважное дело. Рано утром унес из дома простыню, а от дачной пристани увел чужую лодку. Из двух шестов и веревок соорудил мачту с поперечиной, поднял на ней парус. До сих пор помню, как хлопала и полоскала на утреннем ветру простыня, которой выпало счастье стать парусом моей каравеллы.
Кое-какой опыт обращения с лодкой у меня уже был, но в дальние плавания, в одиночку, да еще под парусом отправлялся я впервые. Ради тебя, Оленька. Потому что я загадал: если выполню все, что задумал, то и болезнь твоя пройдет без следа и скоро.
Руля не было, правил я веслом. Могло случиться всякое, будь ветер покрепче, но он дул милостиво и попутно. И часа через два без приключений пригнал меня к Шаману, который для старших гимназистов служил местом свиданий, а нам казался окутанным легендами. Здесь под приметным камнем, где выбиты были какими-то влюбленными буквы Б + Л, я и зарыл Тома Сойера в коробках из жести и дерева. Примял и разровнял землю. Понимал, что никто не заподозрит, что на таком приметном месте, вблизи берега, зарыт чей-то клад.
Я представлял, как в конце лета мы приплывем сюда вдвоем, будем бродить среди камней, будто Бекки и Том на необитаемом острове, а потом я выведу тебя к знакомому месту и полунамеками открою тайну. И бронзовый Том Сойер окажется у тебя в руках. Это обязательно должно было случиться. И потому никак не могло быть, чтобы твоя болезнь окончилась бедою.
Пришла пора возвращаться, и я понял, что главная трудность впереди. До той минуты я был почему-то уверен, что ветер ближе к полудню сменится на обратный. Но тот и не думал меняться. Мало того, держась прежнего направления, он сделался сильнее, пошли волны с гребешками. Под моим самодельным парусом, в лодке без киля и думать было нечего идти навстречу ветру зигзагами, в лавировку. Да я и не умел тогда... Я отважно начал грести к дому, но скоро понял, что путь этот мне совершенно не под силу. Двенадцать верст против волны и ветра!
Страх меня охватил тогда нешуточный. Но возвращаться на Шаман я не мыслил: это означало бы нарушение обета и могло накликать на тебя несчастье. Сквозь охватившую меня боязнь пришло все-таки здравое решение. Спасение было одно: идти к ближнему берегу, до которого около версты. И я погреб. Этот путь тоже дался мне с трудом, стоил сорванной кожи на ладонях. Лодку сносило, сильно качала боковая волна, плескала через борт, могла и перевернуть. И все же я выгреб. Спрятал лодку в кустах, заранее зная, что придется признаваться, чтобы вернуть ее хозяину. Быть лодочным вором я не мог и помыслить, это же не подстаканник стащить из собственной кладовки.
А дальше начался пеший путь вокруг озера. Я представлял его с трудом и только понимал, что это не меньше пятнадцати верст. Чтобы не сбиться с пути, шел берегом, через лес, всякие буераки, болотистые ложбины и каменные горки. К счастью, на полпути, где к озеру подходила проселочная дорога, увидел меня знакомый садовник с соседней дачи. Может быть, помнишь, горбатый дядька Филипп. Он ехал из деревни Павлово. Окликнул, поохал, усадил на телегу и доставил докторского сына прямо к даче. Встрепанного, чумазого, в перепачканной матроске, изодранных чулках и с оторванной подошвой сандалии.
А дома была уже, конечно, паника. Папа и наша кухарка Федосья метались по всей округе в поисках. Тревожились и соседи. Как же: исчез еще до завтрака, не появился к обеду. Я, успевши уже отдохнуть в телеге, встретил расспросы и гневные упреки с мужской сдержанностью и суровой покорностью судьбе. Не стал принижать свой подвиг ложью и признался про все: про лодку, про унесенную ветром простыню и про дальнее плавание. Только о Бронзовом мальчике ничего не сказал, объяснив свою экспедицию жаждой приключений.
Папа, убедившись, что я невредим, перешел от испуга и радости к исполнению необходимого родительского долга. Пересиливши природную доброту, он объявил, что на сей раз мне следует отправиться в сад и самому срезать подходящий к случаю прут. Я обмер, но сжал зубы и пошел. И добросовестно выбрал двухаршинную хворостину, поклявшись себе, что не пикну во время отцовской кары. Так же, как молчал Том Сойер, когда принял на себя наказание, предназначенное Бекки. Это была еще одна моя жертва. Перед лицом судьбы, которая распределяет в мире добро и зло, я своими страданиями надеялся убавить твои, как бы перекладывая их долю из одной чашки весов в другую. И загадал опять: ежели свое первое в жизни знакомство с розгою снесу без стона и слез, это будет залогом того, что тогда уж ты выздоровеешь непременно.
Судьба, однако, на сей раз милостиво освободила меня от нового испытания, прислав спасение в лице твоей мамы. Текла Войцеховна приехала из города с сообщением, что тебе гораздо лучше. Узнавши о приключении и увидевши зловещее орудие возмездия, она решительно взяла меня под защиту, к удовольствию папы, который уже, несомненно, сам искал повода для амнистии.
Уведя меня на террасу, Текла Войцеховна стала рассказывать про тебя и угощать меня шоколадным драже из такой же коробки, в которой я спрятал на Шамане маленького Тома. И стала спрашивать про плавание, чтобы потом рассказать тебе. И тут я, позабывши капитанскую сдержанность, пустил слезу. Боль бы я перенес, а эту ласку снести не мог. Ты до сих пор не знаешь, Олюшка, как я завидовал, что у тебя есть мама. Как хотел, чтобы и у меня была. Такая же, как твоя. Пускай временами строгая, но с тем запасом любви, который окутывает тебя и защищает от всех печалей невидимой магической силой. И Текла Войцеховна это, без сомнения, понимала. Порой она ко мне была ласковее, чем к тебе, словно читала душу мальчика, у которого нет мамы. Иногда мне кажется даже, что она любила меня почти так же, как тебя. Упокой, Господи, душу ее. Завтра, в последний миг, я вспомню ее вместе с тобою и с теми, кого считал самыми дорогими в этой жизни..."
Кинтель закашлялся от сухого, оцарапавшего горло всхлипа. Но слез не было. Только расплавленный стеарин не первый раз уже сорвался со свечи, горячей слезинкой скользнул по пальцам, упал застывающей каплей на прочитанные строчки.
"...Но сейчас я не хочу думать про завтра. В эти минуты я снова там, среди дач, на улице Ильинской.
Ты появилась в августе. Такая похудевшая, коротко стриженная, что у меня сердце заходилось от жалости. Была ты слабая, не могло и речи идти про плавание на Шаман. А потом начались дожди и кончились наши каникулы. Зимой же (не смейся над тогдашним мальчишкой, Оленька!) явился мне во сне седой кудрявый старик в черном костюме – то ли Марк Твен, то ли святой угодник. И строго сказал: "О мальчике ей не говори, пока не станет большой". Кто не суеверен в детстве? Да и потом... Но я молчал не только из-за страха нарушить запрет. Больше – из-за того, что нравилось иметь тайну, которую я открою тебе когда-нибудь. С годами тайна эта крепла, как вино в глубоком погребе, набираясь особого смысла. Я мечтал даже, что, может быть, это случится перед тем, как мы пойдем под венец. Я ни разу не спрашивал тебя, согласишься ли ты на это, но ты же понимаешь, что не думать про такое я не мог. Не сердись. Теперь ты все равно не сможешь огорчить меня отказом.
Едва ли ты разобрала письмо на нашей фотографии и едва ли откопала мой подарок. До того ли было в эти годы. Но если когда-нибудь бронзовый Том Сойер попадет тебе в руки, знай – это я. Приветствую тебя. Видишь, вскинул сжатую руку. Обрати внимание, кулак сжат не совсем плотно, в него можно просунуть проволоку или спичку. Кажется, мальчик что-то держал в руке. Я долго в те дни думал: что? Может быть, дохлую кошку из города Сент-Питерсборо? Но это скорее пристало Геку Финну. Деревянную саблю? Но рука в том положении, что саблю так не держат, она упрется в грудь. Свирель? Но слишком воинственно вскинул кулак. А может быть, в кулаке был хвастливо поднят садок с наловленной рыбой? Но где тогда удочки...
Я придумал вот что. Если все-таки Том будет стоять перед тобой, сделай для него фонарик. Такой крошечный, с наперсток, какие ты когда-то делала для елки. Из проволоки, серебряной бумажки и слюды. И вставь туда свечку-малютку с фитилем-паутинкой. Ты умеешь. И дай фонарик Тому в руку. Такой свечки хватит на несколько секунд горения, но эта искра пусть будет живым приветом от меня. В конце концов, что такое наши жизни, как не мгновенные искры на темном ветру?.."
Кинтель, обожженный внезапным совпадением, опять вытолкнул воздух сохнущим горлом. И не заметил уже, как горячий стеарин с кулака льется на колено, горячо сочится сквозь трикотажную штанину.
"...мгновенные искры на темном ветру? Но все-таки в этих искрах так много всего. И горя, и счастья. Да, и счастья. Потому что жизнь – это ведь не только то, что есть сейчас и будет потом. Тем более, что "потом" может и не быть. Главным образом жизнь – это то, что уже было, а в те ясные времена наших игр на улице Ильинской, тихих вечеров, когда кружится у абажура мошкара, наших любимых книжек, заповедных секретов и бесконечного лета были дни безоглядного счастья и чистой, всю душу заполняющей любви. И я благодарен за них Творцу. И тебе. И это никто у меня не отберет. Храни это и ты.
В наше сбившееся с пути время, когда страна наказана злом, все же есть еще какие-то проблески добра. И я молю Спасителя, чтобы капельку из остатков этого добра он даровал и тебе, самому любимому моему человеку. Потому что если не ты, то кто еще имеет право на глоток счастья в этом взбесившемся мире? Я надеюсь, что Господь будет к тебе справедлив и милостив. С этой надеждой и уйду.
Прощай и не плачь.
Твой Н. Т.
17 ноября 1920 г.,
очень раннее утро".
Кинтель осторожно поставил свечу в круглый след на застывшей стеариновой лужице. Положил рядом с ней последний лист. Прикрыл глаза. Устали ноги – столько сидел на корточках, – но он не шевелился. Зеленые пятнышки от свечки плавали в глазах. А в тишине – уже не плотной, а прозрачной, чистой – возник (будто издалека пришел) первый звук той музыки. Словно где-то в квартале отсюда стояла среди сурепки и одуванчиков, играла специально для Кинтеля девочка-скрипачка. Про все играла. Про молчаливое прощание Ника Таирова с Оленькой и про вечную потом печаль этой Оленьки, вышедшей замуж за бывшего красного командира Анатолия Рафалова, который привез ей от Никиты последнее письмо. И про то, что все-таки была у Оли и Никиты в детстве ясная радость, которая сохранилась потом, как негасимый огонек, – несмотря на все горести. Как упрямый фонарик в руке у мальчика... А еще, наверно, про Алку Баранову... И про светлое окошко на пятом этаже...
Она, эта мелодия, звучала в душе чисто и отчетливо. Так знакомо... И вдруг Кинтель понял, что есть здесь еще совпадение! Во второй фразе этой музыки слышался его собственный сигнал! Те четыре ноты, про которые командир ребячьего оркестра сказал когда-то: "Ну просто "Итальянское каприччио"..." Если сыграть их чуть помедленнее, не на трубе, а на той певучей скрипке, они вплетутся в эту мелодию, словно так задумано давным-давно. Нарочно для него... Для Данилки Рафалова...
В этом открытии был намек еще на одну разгадку. Оно, казалось бы, не имело отношения ни к письму, ни к бронзовому мальчику, ни к окну на улице Павлика Морозова, и тем не менее теплая, похожая на ласковое обещание уверенность тихо согрела Кинтеля. Словно кто-то шепнул ему: "Теперь будет все, как ты ждал..."
Кинтель осторожно, чтобы не расплескать новую надежду, стал выпрямляться. И в этот миг тяжелый удар сотряс музыку, тишину, дом. Пошел по всему пространству черными трещинами.
Кинтель упал, вскочил, бросился к окну.
В сумраке он различил вставшую напротив машину с грузовой стрелой. Висевший на тросе длинный предмет с нарастающей скоростью отплывал от дома. Не гиря, не ядро, а, видимо, бетонная балка. И пока она уходила от треснувшей стены для нового размаха, Кинтель успел передумать множество мыслей.
"Раз не чугунный шар, а балка, значит, не специальные ломатели! Незаконные..."
"Корнеич говорил, что какие-то типы предлагают исполкому кучу денег за разрешение поставить на месте дома кооперативные гаражи... Исполком чуть не согласился, но опять помогла газета..."
"Гады, в темноте подобрались! И ребят не собрать сразу. Пока докричишься, разрушат..."
Эх, была бы труба! Но кто же знал...
– Стойте! – закричал он отчаянно. – Не смейте! В тюрьму захотели, паразиты?!
Но балка неслась уже к нему, к Кинтелю. Он отшатнулся. Бетонный груз ударил в косяк, внутрь комнаты полетели кирпичи, сверху посыпалось.
Тогда Кинтель вскочил на подоконник. Стекол и рамы не было, пустой проем.
– Стойте, сволочи! Бандюги! Не ваш дом, не смейте!!
Кто-то заголосил у машины:
– Гошка, там пацан! Тормози!
Другой голос ответил с матом:
– ...тормози! Как?.. Эй, ты, пошел оттуда!
Он не пошел. Загораясь яростной правотой и ясным бесстрашием, он знал теперь, что остановить врагов можно только самим собой! В конце концов, он не Стройников, он отвечает за себя за одного!.. И когда балка бетонным концом опять сокрушающе врезалась в стену – левее и ниже подоконника, – Кинтель не упал, не сорвался. Толкнувшись от косяка, он прыгнул на балку и вцепился в трос. Встал!
Миг балка была неподвижна, потом все быстрее и быстрее пошла назад, и Кинтеля охватило ощущение жутковатого полета. А снизу неслись вопли и матерщина. Но и в этом страхе, в этом полете Кинтель не потерял головы.
– Не смейте, гады! – снова кричал он. А потом увидел в сумерках, будто метнулись вдали по улице маленькие тени! Может, ребята играют в ночные пряталки? Показалось даже – мелькнула собака. Ричард? Значит, и Салазкин?!
И Кинтель закричал еще громче, со смесью отчаяния и злого азарта:
– Ребята! Санки! Дом ломают! На помощь!..
Балка замерла в очередном замахе и понеслась обратно. Внизу, кажется, ее пытались удержать за волочившийся трос. Разве удержись!.. Но Кинтель не боялся. Он чувствовал, что запаса инерции теперь не хватит, чтобы балка ударила в стену...
Он не учел другого. Клен! Балка слегка изменила путь, ветка хлестнула мальчишку по плечу, зацепила капроновый аксельбант, и Кинтель грянулся на щебень. Перевернулся несколько раз и оказался лежащим навзничь. У фундамента своего дома.
Двинуться он не мог, тупая несильная боль от затылка растеклась по мышцам неодолимой слабостью. Но Кинтель слышал еще, как подбежал кто-то, выругался, постоял секунду и кинулся прочь. Ухнула земля, это машина сбросила балку и трос. Заурчала, разворачиваясь и втягивая стрелу. Уехала, кажется. Тихо стало...
На верхнем карнизе окна, из которого Кинтель выскочил, появился оранжевый отсвет. И Кинтель ясно понял, что свеча упала на письмо, огонь пошел по листам, потом по сухим обоям, клочьями висящим на стене...
"Жаль письмо. Полностью теперь не вспомнишь..."
"Ох и крику будет из-за сгоревших учебников..."
"А ручки не сгорят, можно будет потом найти. Хорошо, что вторую и отвинчивать не придется..."
Потом отблеск на карнизе исчез. И сам дом исчез, и темное небо. Только маленькая искра еще долго дрожала во тьме, словно вдали стоял с фонариком в руке бронзовый Том Сойер, Ник...