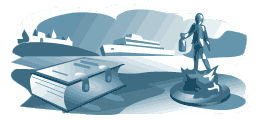ОГНЕННЫЙ КЛЕН
Мальчишки там не играли в тот вечер, Кинтелю просто показалось. Они примчались к дому лишь тогда, когда отовсюду стало видно бьющее из-под крыши пламя. Джула прибежал, Эдька Дых, Рюпа. И Салазкин из своего "Гнезда". Вместе с Ричардом. Ричард и учуял Кинтеля, кинулся к нему с жалобным лаем. За ним ребята. В тот момент к дому еще можно было подойти...
"Скорая" приехала раньше, чем пожарные. Когда с воем примчались красные машины, сухие стропила, потолочные балки, дощатые перегородки и лестницы, полы и масляная краска стен пылали вовсю.
К утру от дома остался черный выгоревший остов без крыши.
Тех, кто пытался разрушить дом, так и не нашли. Да скорее всего, не очень-то и старались найти. Ходил слух, что в площадке для гаражей на этом месте заинтересовано было и милицейское начальство.
Короче говоря, то, чего не сделали разрушители со своей бетонной балкой, сделал огонь. Теперь о ремонте нечего было и думать.
Да об этом и не думали. Все мысли были о Кинтеле. Называли всякие травмы. Перелом основания черепа и много еще другого... Опытный хирург, хороший знакомый деда, сделал Кинтелю операцию. И сказал потом виновато: "Все, что возможно... Теперь зависит от организма, как он сам..."
А сам Кинтель был плох. В сознание не приходил. Не открывал глаз, не размыкал губ. Опутанный проводами и шлангами, он лежал в палате реанимации, и только нервные стрелки приборов показывали, что мальчик жив. Еще жив... Так прошли сутки, вторые. Дед, отец, тетя Варя дежурили в больнице по очереди. Впрочем, не все время дежурили. Потому что сиди, не сиди рядом, ничем все равно не поможешь, а за состоянием Кинтеля следили медсестры. Состояние это называлось коматозным. Когда человек в глубоком беспамятстве и ни на что не реагирует. То ли жив, то ли...
Впрочем, это лишь казалось, что Кинтель ничего не чувствует. Придавленное глухой тяжестью и необоримой ленью сознание все-таки вбирало в себя обрывки чужих фраз, движений и, кажется, даже мыслей. Выстраивало их в цепочки. Кинтель знал, что дом сгорел, но виноватых не нашли, что люди очень встревожены его беспамятством и считают, что он умирает. Сам он этим встревожен не был. Он думал о себе отстраненно, как о другом человеке. Мало того, иногда он словно видел себя со стороны: неподвижного, подключенного к разным аппаратам.
Вроде бы он видел и тех, кто был рядом. Один раз даже показалось, что в палате появился Салазкин. Тихий, неподвижный, с растрепанными волосами и горестными зелеными глазищами. С тощими и поцарапанными ногами, торчащими из-под белого халата. Кинтель мысленно улыбнулся, понимая, что Салазкин-то уж явно привиделся. Кто же пустит мальчишку в больницу, да еще в такую строгую палату...
Но Салазкин действительно пробился в больницу. Кажется, на четвертые сутки. Помог белый халат, который нашелся дома. Его в давние времена сшила мама, когда ухаживала за крошечным заболевшим Саней – чтобы он привык к белому и не пугался приходившего врача и медсестер. В этом халате Салазкин проскользнул мимо строгой вахтерши, которая решила, что у мальчика пропуск. А потом помогли Салазкину его непривычные для взрослых вежливость и затем слезы, которые рванулись сами собой... И молодой чернобородый врач сказал двум другим:
– Ладно, пусть постоит у порога. – И добавил вполголоса: – Не все ли равно теперь...
И Салазкин с минуту стоял у двери маленькой палаты, где на единственной кровати, среди каких-то блестящих ящиков и трубок лежал неподвижный, почти незнакомый Кинтель. Суровую безрадостность слов "не все ли равно теперь" Салазкин тогда не понял.
Он понял это позже, на следующее утро, когда опять пришел в больницу. Там, в вестибюле, он встретил Виктора Анатольевича. Спросил полушепотом:
– Он... как?
Дед Кинтеля, глядя мимо Салазкина, потоптался, развел руками и вдруг вздернул плечи и быстро вышел на улицу.
Салазкин обмер и ослабел. Но тут же, рывками натягивая халат, кинулся на второй этаж. На этот раз – под крики вахтерши и медсестер. Он успел добраться до Андрея Львовича – того чернобородого доктора. Нашел его в ординаторской.
Несколько секунд они молча смотрели друг на друга с горьким пониманием.
– Что ли... совсем без надежды? – выдавил Са-лазкин.
Андрей Львович так же, как дед Кинтеля, глянул мимо Салазкина. Сказал излишне ровным голосом:
– Пока человек жив, надо надеяться. Даже тогда, когда уж совсем...
– А он... совсем?
– Беги-ка домой, Саня, – насупленно посоветовал Андрей Львович. – Вопросами делу не поможешь...
И Салазкин пошел. Не домой, к Корнеичу. И лишь через квартал понял, что идет в белом халате...
Дома у Корнеича теперь постоянно был кто-нибудь из отряда. А по вечерам собирались все. Потому что вместе легче переносить тревожное ожидание и неизвестность. Иногда кто-нибудь приводил и Регишку. Потому что очень уж тошно ей одной-то, когда отец на работе или в больнице у сына...
Впрочем, тоскливой расслабленности в отряде не было. Скорее – нервная ожесточенность. И желание хоть как-то ответить неизвестным гадам, из-за которых все несчастья: и с Кинтелем, и с домом.
И ответили.
Паша Краузе напечатал на машинке Корнеича вот что:
В этом доме
в 40-х годах XIX века
жил декабрист Ф.Г. Вишневский.
В наши дни этот дом
хотели отдать детям.
Его уничтожили враги
города и детства.
Его до последней минуты
защищал последний трубач
отряда "Тремолино"
Данилка Рафалов,
которого зовут
Кинтель.
Паша сперва написал не "зовут", а "звали", но Сержик Алданов молча показал ему это слово и покрутил у виска пальцем. Паша испуганно порвал бумагу и напечатал все заново.
Текст сняли на пленку "Зенитом". И на больших листах фотобумаги, пятьдесят на шестьдесят, напечатали в десяти экземплярах. Буквы стали большими, высотой в сантиметр. Черные на белой блестящей поверхности они читались издалека.
Взяли банку эпоксидной смолы и отвердитель, приготовленные для строительства шхуны. Наклеили бумагу на прямоугольники древесностружечной плиты, оставшиеся от ремонта вострецовской квартиры. Той же смолой – для прочности – покрыли текст.
Паша Краузе, Дим, Салазкин и Не Бойся Грома пришли к сгоревшему дому и прибили доску со стороны улицы, вгоняя тяжелые гвозди в щели между обугленными кирпичами. Тут же собралась компания "достоевских". Смотрели молча и одобрительно. Только Джула спросил недовольно:
– А почему "последний"? Вы что, его уже заранее похоронили? И себя заодно?
Паша хмуро, но миролюбиво разъяснил, что никто не хоронит отряд. "Тремолино" будет жить, сгори хоть весь город. Шхуну построят прямо на берегу, под навесом на базе. И крышу себе найдут в конце концов. И Кинтеля никто не отпевает. Но чем бы все это ни кончилось, кроме Данилки Рафалова, трубачей в отряде больше не будет. Он со своим сигналом – единственный. Это теперь ему как бы вечное звание. Как награда и память на всю жизнь...
А майский день был теплый, радостный, и диким казалось, что в такое время может кто-то умереть. И даже не "кто-то", а всем знакомый Кинтель, товарищ, давний житель этих мест...
Зеленели клены, и только самый ближний к дому стоял обгорелый. Словно в наказание за то, что ветки его сбросили Кинтеля на землю. Но разве он был виноват? Ведь не мог он посторониться.
– Жаль дерево, – сказал Дим. – Сгорело заживо...
Маленький Рюпа сел на корточки.
– Оно отрастет. Смотрите, у корней поросль...
Не Бойся Грома вдруг стянул с себя красный галстук и привязал к обугленной ветке. Тогда и Салазкин, за-дрожав от горького волнения, сделал то же. И, глядя на них, оставили на обгорелом клене свои галстуки Паша Краузе и Дим.
Местные смотрели на это молча и с пониманием. Потом разбежались по домам, отыскали галстуки, в которых давно уже не ходили в школу. И тоже привязали их к черным скрюченным сучьям. Клен, потерявший майскую листву, словно обрел теперь другую – пламенную. Она длинными языками трепетала на теплом ветру.
...Через сутки оказалось, что доску сорвали и унесли. Но ребята прибили другую. А вечером Джула рассказал Саньке, что приезжали на машине двое, опять нацеливались на доску. Но свистнул дежурный, сбежались местные пацаны, встали цепочкой. Толстый дядька чиновничьего вида сказал им:
– Зачем это, дети? Вы создаете ненужный ажиотаж. Развалины все равно скоро снесут.
– Найдем куда прибить, – ответил маленький Рюпа.
Дядька пожал плечами. "Жигуленок" уехал. На всякий случай записали его номер...
А галстуков на клене прибавилось. Говорят, приходили незнакомые ребята, оставляли свои. Было теперь здесь и несколько разноцветных – от скаутских и разных других отрядов. Но особенно густо горели на солнце алые. И клен был словно опять охвачен пламенем в потоках плотного и ровного зюйд-веста.
Салазкин шагал из больницы пешком и оказался у тополя, когда был уже полдень. Пора идти домой, собирать портфель для школы. Но Салазкин стоял и смотрел на клен. Как он полыхает... Клен полыхал весело, по-боевому, а Кинтель в больнице, несмотря на это, умирал. Салазкин понимал теперь с полной ясностью, что надежды нет. Плакать не хотелось. По крайней мере, не очень. Потому что было сейчас как на войне, а там, говорят, над погибшими не плачут. И Салазкин просто стоял и смотрел на огненный клен. С глубокой и слегка горделивой печалью: "У меня умирает друг..."
Потом он заметил, что один галстук сорвало и отнесло ветром, запутало в прошлогоднем репейнике. Салазкин, царапаясь, достал его. Положил под кленом сумку с халатом, глянул наверх. Он решил забраться к верхушке, чтобы завязать этот галстук выше других.
И полез, пачкая себя сажей обугленных ветвей.
Он остановился лишь тогда, когда ветки стали потрескивать под ним. Привязал галстук за гибкий, казавшийся живым прутик. Алая материя вымпелом рванулась из ладоней.
Салазкин спустился. Постоял, глядя вверх.
"У меня умирает друг..."
Привязав галстук, Салазкин сделал для Кинтеля все что мог... Или мог что-то еще?
Мог. И обязан был! И он решился на то, о чем до сих пор думал отрывочно и несмело.
К счастью, была суббота, для многих выходной день, и она оказалась дома.
Открыла дверь, вздрогнула, отступила, взяв себя тонкими пальцами за подбородок. Может, испугалась перемазанного вида мальчишки?
– Здравствуйте, – сказал Салазкин тихо, но решительно. – Вас зовут Надежда Яковлевна?
– Да... входи.
Он шагнул через порог.
Надежда Яковлевна отступила еще. Спросила то ли со страхом, то ли со скрытой болью:
– Чего ты хочешь, мальчик? Я... слушаю...
Глядя в ее худое, с печальными складками лицо, Салазкин все так же негромко, но твердо проговорил:
– Извините. У вас был сын. Да?
– Да... Да!.. А ты...
– Я его друг.
Надежда Яковлевна села на приступок у зеркала, глянула ищущим, недоверчивым, растерянным взглядом:
– Но... я не помню тебя. Да нет, не может быть. Ты гораздо младше.
– Всего на два года. Это не важно... Сейчас ничего не важно, Надежда Яковлевна. Вы ничего не знаете, а он... сейчас в больнице. В очень плохом состоянии... – Салазкин не посмел сказать "в безнадежном"...
Она прижалась затылком к собственному отражению. Пальцы на подбородке закаменели, брови сошлись.
Салазкин строго сказал:
– Все ему говорили, что вы погибли, но он не верил. И узнал, где вы живете...
Она как-то обмякла, положила руки на колени, нагнулась к Салазкину:
– Я что-то начинаю понимать... Наверно, именно этот мальчик опустил мне в ящик под Новый год открытку, которая на месяц уложила меня в больницу?
– Да... но разве вы...
– Нет... – выдохнула она. – Нет, мальчик, нет... Это просто... такое вот совпадение. У меня был сын, Витенька, двенадцати лет. Он умер три года назад от лейкемии. Не здесь, в другом городе... И я приехала сюда, потому что не могла там одна... И вдруг открытка: "Мама, поздравляю..."
– Это я посоветовал ему, – прошептал Салазкин.
Помолчав и отвернувшись, она спросила:
– Сколько ему лет?
– Тринадцать... завтра было бы...
– Почему... "было бы"?
Салазкин всхлипнул, но не отвел глаз.
– Потому что, наверно... не успеет...
– Так плохо?
Он кивнул, но опять поднял глаза:
– Надежда Яковлевна... Теперь ведь не имеет значения. Говорят, он иногда что-то чувствует сквозь... бессознание. И он поймет, что вы пришли. И будет думать... Хоть на последний час ему радость... Он надеялся целый год...
– Господи... Почему он решил, что я его мама?
– Говорит, похожи... Может, он даже откроет глаза и увидит... – Салазкин отвернулся, заплакал уже открыто.
– Господи... – сказала опять Надежда Яковлевна. И потом еще, с усилием: – Я несколько дней провела в палате, когда умирал Витя. До самого конца... Ты думаешь, я выдержу это еще раз?
Салазкин глянул мокрыми испуганными глазами:
– Извините... Я так не думал... Я об этом вообще не думал. – Потом сказал спокойнее и уже безнадежно: – Дело в том, что я думал только о Дане...
– Его зовут Даней?
– Да...
Они молчали долго. Салазкин хотел уже прошептать: "Извините, я пойду..." Надежда Яковлевна вдруг поднялась. Медленно, будто с тяжелым мешком на плечах.
– Ладно, идем...
– Нет... если так, то, наверно, не надо... – забормотал он.
– Теперь это не тебе решать. И не мне. Наверно, судьба... – Она вдруг стала спокойной, строгой даже: – Пошли... Хотя постой, иди-ка сюда. Где ты так вывозился...
Надежда Яковлевна за плечо ввела Салазкина в ванную. В теплой воде намочила конец махрового полотенца, решительно и умело оттерла Салазкину щеки, ладони, коленки. Щеткой почистила рубашку, без успеха впрочем.
– Идем.
На лестнице она спросила:
– Где больница?
– На Московской, областная...
На улице они не пошли к трамваю. Надежда Яковлевна подошла к обочине, решительно проголосовала первому же "Москвичу". Тот тормознул.
– Нам нужно в больницу, очень срочно. Там мальчик... На Московской.
– Садитесь, – буркнул молодой водитель, мельком глянув на Салазкина.
– Спасибо... Ох, я оставила деньги! Вы подождете минуту?
– Садитесь. Мне все равно в ту сторону...
Помчались. На полпути Надежда Яковлевна вдруг шепотом спросила:
– Мальчик, а меня пустят?
– Я добьюсь, – тихо сказал Салазкин.
Он добился. Его уже знали здесь и недолго сопротивлялись отчаянной просьбе позвать Андрея Львовича. Скоро чернобородый доктор оказался в вестибюле.
– Вот... – сказал Салазкин. – Это его... мама. Она должна...
Андрей Львович посмотрел на мальчишку, на женщину. Почему-то оглянулся на лестницу. И сказал уже ни на кого не глядя, опустив глаза:
– Хорошо, Саня, дай Даниной маме свой халат, так будет быстрее...
Вот и все. Он сделал что мог. Теперь надо было идти домой, потом в школу. Обедать, сидеть на уроках, жить...
Но Салазкин опять пришел к обгорелому клену. Тянуло его сюда, словно за каким-то утешением. За спасением. Но не было теперь ни утешения, ни спасения. Ни надежды. Понимание того, что Кинтель вот-вот умрет, надвинулось беспощадно. Уже без всякой гордой печали, без той значительности, которая была во фразе: "У меня умирает друг".
Салазкин понял, что до сих пор все-таки не верил в это до конца. Пока делали доску для дома и привязывали галстуки, пока он пробивался в больницу, и даже пока разговаривал и ехал с Надеждой Яковлевной – это все еще была какая-то игра. Это отвлекало мысли и силы от того самого страшного, что неизбежно приближалось. А теперь отвлекать было нечему. И страшное, безысходное ощущение потери обрушилось на беззащитного Салазкина со всей своей черной беспощадностью.
Он прижался лбом к обожженному стволу и зашелся в отчаянном плаче. Потому что как он будет на свете, когда Кинтель, Даня, Данилка Рафалов умрет?
...Но Кинтель не умирал.
Мало того, он и не собирался умирать. Тьма и свинцовая тяжесть еще лежали на нем, но не было в них той абсолютности, которая давила прежде.
Он не мог умереть. Иначе в каком одиночестве окажется Регишка!.. И кто будет зажигать фонарик у бронзового Тома Сойера?.. И кто расскажет, что было в спрятанном под медной ручкой письме?
И впереди столько дел! Надо строить шхуну "Тремолино-2". Надо разыскать родственников или друзей семьи Алки Барановой и узнать у них ее заграничный адрес. Надо выучить полный набор сигналов для трубы, чтобы тот, самый первый, самый главный, играть лишь в особо важные моменты... Надо вновь ощутить счастье парусного плавания... И много чего еще надо успеть и сделать...
Чашка весов, качнувшись в сторону жизни, теперь уже не могла остановиться. Потому что тепло этой жизни шло неудержимо от узкой горячей ладони, которая лежала на запястье у Кинтеля. Он знал, чья это ладонь. И она спасала его. И сердце стучало все отчетливее, все ровнее. И шевельнулись ресницы...