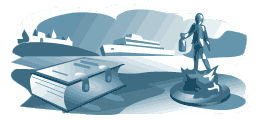ЧТО ОН ДЕРЖАЛ В РУКЕ
Утром Кинтель взял бронзового мальчика с собой. Положить его в сумку не решился – помнил историю с "Морским уставом", – сунул в карман. Это оказалось не очень-то удобно, уголки подставки царапали сквозь подкладку ногу, шорты от тяжести съезжали, пришлось покрепче затянуть флотский пояс. Кинтель пошел в школу в отрядной форме из какого-то веселого упрямства. А еще – из чувства особой, щемящей душу преданности "Тремолино", которая во много раз выросла после вчерашнего штормового плавания. И кроме того, хотелось почему-то снова поддразнить своим видом Алку Баранову (а может, просто покрасоваться перед ней?).
А потом он (если Алка не будет чересчур воображать и насмешничать) похвастается вчерашней экспедицией на Шаман и покажет находку...
Но Алка в школу почему-то не пришла. Кинтелю слегка взгрустнулось.
Кстати, никто особого внимания на его форму не обратил: школа пестрела всякими нарядами, день стоял совершенно летний, словно и не было вчера "арктического плевка". Лишь один старшеклассник, смерив Кинтеля взглядом, заметил: "Во, еще один скаутенок вылупился". И получил в ответ "драного козла". Однако за Кинтелем не погнался: старших одолевали более крупные заботы. Одиннадцатые классы бунтовали, не желая сдавать экзамены по программе, утвержденной педсоветом. Глядя на них, волновались и девятые...
После шестого урока Кинтель встретил у школы Салазкина: такого же оранжевого и при аксельбантах. Кинтель весело сказал:
– Вот узнает Корнеич, что мы форму в школе треплем, будем нам на орехи.
Салазкин слегка смутился – видать, вспомнил вчерашнюю неприятность. На коленке у него все еще заметны были следы зеленки. Кинтель тихо спросил:
– Ты вчера, наверно, здорово на него обиделся, да?
Салазкин вскинул глаза – такие, будто и в них капнули зеленкой.
– Что ты! Ничуть... Я сам был сплошной дурак. А он ведь за каждого отвечает... Даня, ты заметил, как он перекрестился, когда сошли на пирс? Там, в Старых Соснах...
– Я... нет...
– Дело-то ведь было нешуточное, – совсем по-взрослому сказал Салазкин. – Особенно когда о камни грохнуло...
– Я толком, кажется, ничего и не понял, – признался Кинтель. – Потому что новичок...
– Теперь уж какой ты новичок!.. А если бы что-то случилось, это было бы навеки ЧП имени Александра Денисова. Потому что я наворожил. Своей дурью.
Кинтель помолчал и спросил, преодолев нелов-кость:
– Санки, а ты заметил: меня вчера почему-то перестали Кинтелем называть? Всё "Данилка" и "Да-нилка"...
– А тебе как больше нравится? По-новому или по-старому?
– По-всякому, – вздохнул Кинтель. – Ладно, пока. Я побегу, дед сейчас как раз на обед придет. Он ведь еще ничего не знает про это... – Кинтель похлопал по отвисшему карману.
Дед поставил бронзового мальчика перед собой и смотрел на него с хорошей, чуть печальной улыбкой. С такой же, с которой рассказывал Кинтелю о своем детстве: как гоняли на пустырях тряпичный мяч, пробирались без билета в летний фанерный цирк в городском сквере и устраивали на Сожинском спуске гонки на построенных из досок самокатах...
– И нос блестит... Так в точности блестел нос у моего приятеля, рыжего Вовки Постовалова, когда мать насильно умоет и вытрет его... И так же он замахивался на обидчиков.
– Думаешь, он замахивается? – спросил Кинтель. В жесте мальчишки вроде бы не было угрозы. Кулак, поднятый к плечу и повернутый сжатыми пальцами вперед, все-таки означал, скорее всего, приветствие. – Похоже на салют. Ну вроде как "рот-фронт"...
– Пожалуй, – согласился дед. – Хотя в ту пору не было еще никаких "рот-фронтов"... А может, он заступается за кого-то? Без особой агрессивности, но с ощущением своей силы и справедливости...
– Слишком беззаботно стоит... Смотри, Толич, он что-то держал в руке, кулак просверлен.
– В самом деле... А может быть, не держал, а держался? Видишь, слегка отклонился влево.
– За что держался?!
– Ну, скажем, за ветку, за ручку колодезного ворота... за что угодно.
– А где тогда это "что угодно"?
– Видишь ли, мальчик мог быть не сам по себе, а деталью какой-то композиции. Скажем, большого письменного прибора. А на приборе мастер мог понастроить все что хочешь. Бронзовые вещи были тогда в моде.
Кинтелю это не понравилось. Не хотелось, чтобы мальчишка был чем-то вроде шахматной фигурки среди множества других. Нет, он – сам по себе. Веселый, храбрый, встретивший друзей. "Вот и я! Возьмите меня в "Тремолино"!"
– По-моему, он не от прибора. Смотри, здесь имя мастера выбито. Разве мастер стал бы свое клеймо ставить на каждую детальку? Выбил бы на общей площадке... Нет, этот пацан сам по себе отлитый!
– Возможно, возможно, – покладисто сказал дед. И уже как-то рассеянно. Сел на диван, откинулся к спинке, ладони – под затылок.
– Толич, а Оля... мама твоя... она ничего про бронзового мальчика не говорила? Может, это была у них с Никитой общая игрушка, а потом он спрятал ее для тайны...
– Нет, Даня, не помню... Мало ли у мамы было игрушек... Может быть, они об этом мальчике что-то в своих детских дневниках писали...
– А где дневники?!
– Вот и я про то, что "где"... Сожгла мама все в тридцатых годах. Все старые бумаги.
– Зачем?!
– Господи, "зачем"... Я же рассказывал тебе, какое было время. Боялись всякой мелочи. Вдруг кто-то прочитает, что твой дед был владельцем лавки! Буржуй, эксплуататор, враг трудового народа! Или на снимке увидят какого-нибудь твоего дальнего родственника в фуражке с кокардой. "В вашей семье были белогвар-дейцы?.."
– Все равно, – с обидой сказал Кинтель. – Можно было спрятать получше. Чего уж так трястись-то?
– Вот так, мой милый, и тряслись... – Дед смотрел перед собой. И в голосе была горестная усмешка. – Многие годы в постоянном страхе. А мама особенно. Если бы узнали, что ее муж был священником...
Кинтель сел рядом с дедом, поставил пятки на диван, а мальчика – себе на колено. Мальчик покачался и встал прочно. Искра блестела, лицо было задорное. Мальчик не понимал, как можно жить в постоянном страхе. И Кинтель сказал:
– Это же немыслимо: бояться с утра до вечера, каждый день...
– Никто из молодых этого не понимает. А это было. И жили... И считали, что нормально. Потому что ничего другого не знали. Нам же с рождения вдалбливали, что наша страна самая справедливая, а там, на остальном белом свете, сплошной гнет и насилие... И сравнивать было не с чем... Вот представь, вылупился из икринки карась в каком-нибудь полуозере-полуболоте. Что он знает о реках и океанах? Он считает, что болото его – весь мир, такой, каким он и должен быть...
– Человек, он ведь не карась, – тихо возразил Кинтель. Было не то чтобы жаль деда, а как-то неловко за него.
– Да... И где-то пробивалась, конечно, правда. Из обрывков каких-то, из старых книг. И того же Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Понятия о какой-то общей, всечеловеческой совести. Но ведь, с другой стороны, каждый день: "Самая главная правда на Земле – коммунизм!" И попробуй в этой правде усомниться! Даже мысленно – и то страшно: неужели я враг своему народу? А уж открыто...
– Но были же... которые против...
– Были, но немногие. Если даже и понимали, что к чему, то все равно... Далеко не каждый может быть героем...
"Ты уже говорил про это", – подумал Кинтель.
– Понимаешь, какая подлая система! Она все время держала людей на грани! На страхе! Вспомни, ведь еще недавно все хором одобряли войну с Афганистаном! А если и проклинали, то шепотом. Многие ли выступали открыто?.. И это совсем в ближние времена. А раньше... И это в любой момент могло коснуться каждого.
– Что "это"? – сказал Кинтель, покачивая мальчика.
– Ты ведь до сих пор не знаешь, почему я перестал быть морским врачом...
– Ты говорил: из-за сердца... А по правде почему? – Кинтель покосился на деда. Тот по-прежнему сидел с ладонями под затылком, смотрел перед собой.
– Плавал я на "Донецке" уже два года, когда появился у нас новый первый помощник капитана. Первый – значит, помполит. "Помпа". Не штурман, а комиссар, который бдит за правильностью идеологии. И вот, когда стояли мы в Архангельске, пригласил он меня к себе в каюту. А там еще один – незнакомый, с лысинкой, в пенсне и в штатском костюме. Какой-то весь увертливый. Молчит, только слушает. А "помпа" заводит разговор: "Вы, Виктор Анатольевич, молодой специалист, член партии, сознательный человек, разбираетесь в обстановке. Не согласитесь ли нам помочь..."
Гляжу я на лысого: ясно, кому это нам. Вербуют в стукачи, сволочи. Чтобы следить за своими и капать, кто что сказал и сделал. И первая мысль, конечно: послать их... А вторая: послать-то послал, но тогда – что? Вмиг найдется повод – прощай заграница. А предстоял рейс на Кубу – давняя мечта моя. Был я молод и горел жаждой путешествий. До той поры, кстати, бывал только в скандинавских портах да в Польше и Германии. И вот ситуация: с одной стороны – Антилы, пальмы, летучие рыбы, восторг тропиков, а с другой... Думаю – а что с другой? Ну, скажу этим типам: ладно. Потом и отвертеться можно. Да и в конце концов, не гестапо же сотрудничать приглашает, не ФБР или ЦРУ, а свои, советские. Вдруг и правда за границей какое шпионство встретится?"
"Ну, – говорю, – в общем-то я не знаю. Такое дело... Тут ответственность особая, и способности нужны..."
И тогда встревает лысый. Прямо как в старом анекдоте: "А вы попробуйте, Виктор Анатольевич. Попытка – не пытка. Мы вам доверяем..."
Ну и... не сказал я "нет". Пробормотал, что попробую, мол, раз уж так это надо...
Ничего особенного и не было сперва. Несколько раз помполит спрашивал между делом: "Ну, о чем говорят?" – "Да ничего такого, – отвечаю. – Вы же не хуже моего знаете. Экипаж у нас дружный, сплоченный, идейно выдержанный... Анекдоты, правда, травят, да не про политику, а все больше такие, знаете ли, неприличные, как всегда мужики в своем кругу..."
Пришли в Гавану, начались увольнения. Разбивают по трое, в одиночку ни-ни... Один в тройке – старший. Ну, пошли мы однажды гулять по старому городу: я, радист Веня Соловьев и матрос Рябов. Не помню, как звали. Довольно пожилой уже, малоразговорчивый... Бродили мы, на старые бастионы смотрели, на мулаток. Потом решили в церковь зайти. Неужели, говорит Веня, революционные кубинцы Богу молятся? Зашли. Молятся. И пожилые, и молодежь. Даже два мальчика священнику помогают. Ну а особенно и смотреть нечего, церковь скромненькая, не то что соборы в Гданьске или Гамбурге... Одна картина мне понравилась, в боковом приделе. Богоматерь с Младенцем. Будто живые. Рябов тоже подошел, смотрит. А потом задержался еще, вижу: перекрестился украдкой...
А наутро вызывает меня "помпа": что нового? "Да ничего, – говорю, – все в ажуре". – "В самом деле? – И прищурился. – А то, что матрос Рябов религиозные ритуалы в иностранной церкви демонстрировал, тоже "в ажуре"?"
Значит, радист стукнул, паразит...
Мне бы заверить помпу: не видел, и все тут. А меня забрало за печенку. Видно, есть предел человеческому маразму. "Не обратил, – говорю, – внимания, товарищ первый помощник. А если бы и обратил, не счел бы данный факт нарушением. Потому как у нас вроде бы по Конституции свобода совести, и каждый имеет право..." – "Даже за границей, где на нас постоянно направлены десятки вражеских глаз?!" – "А что он, – спрашиваю, – антисоветские лозунги, что ли, на паперти декламировал?" – "Ну-ну, – говорит "помпа". – Вашу оригинальную точку зрения вынужден я буду сообщить куда следует..." Тут меня и прорвало: "Только попробуй, сволочь! Там "где следует" узнают и то, как ты на одеколон "Кармен" кораллы выменивал, которые к вывозу с Кубы запрещены! И что у тебя за дверной обшивкой спрятано!"
Про обшивку я уж так, наугад. Знал, что таким образом многие мелкую контрабанду прячут. Он, смотрю, побелел, процедил: "Идите..." Ну и на том наши контакты кончились до завершения рейса. А рейс длинный был. Я пару дней помучился всякими сомнениями (потому как не герой), а потом по наивности стал думать, что всё обойдется.
Пришли опять в Архангельск, заглянул я с приятелями в ресторан отметить возвращение. Там какая-то шпана стала нарываться на скандал. И тут же – милиция. Загребли не их, а нас. Протокол об участии в коллективной драке (которой вовсе и не было). Загранвиза – прости-прощай... Тут я смекнул, чьих рук дело. По глупости попробовал права качать. Меня на медкомиссию: у вас сердце барахлит, не годитесь для плавсостава. А потом в военкомат: на два года пойдешь служить как офицер запаса. Я говорю: "У меня же сердце не в порядке!" – "Это там у вас сердце, а для нас в самый раз..." Ну и оттрубил "две зимы, две весны" в Казахстане. Кстати, не жалею, хорошие там были ребята. Хотя, конечно, пришлось несладко. С Кларой, с бабушкой твоей, и с маленьким Валеркой обитали втроем в крошечной комнатке общежития... Потом вернулись сюда, ушел в санавиацию (и сердце оказалось ни при чем). В море больше не совался... Так и живу. С грязной плямбой на душе...
– С чего плямба-то... – скованно сказал Кинтель. – Ты же никого... не предал.
– Кроме себя. Когда не сказал сразу "нет", предал себя самого. Тут уж никуда не денешься... Спустил флаг, как Семен Михайлович Стройников...
– Стройников, может, посмелей многих был! – вскинулся Кинтель. – Он людей спасал!
– Ну... может быть. Тем более. А я спасал себя...
– Ничего себе "спасал"! Послал эту помпу ко всем чертям!
– Нет, Данилка, не обольщайся, дед у тебя никогда не был смелой личностью.
Кинтель встал, поставил мальчика на край стола. Потрогал на его виске бронзовый завиток. Сказал не оборачиваясь:
– Я знаю, почему ты на себя наговариваешь. "Видишь, какой я плохой, не жалей, что уехал от меня... И не вздумай возвращаться..."
Дед резко заскрипел диваном.
– Ты рехнулся? Да хоть сегодня перебирайся обратно!
– Нет уж, – вздохнул Кинтель. – Теперь нельзя. Сам знаешь...
Он затолкал мальчика в карман, пошел к двери. И, опять не решившись оглянуться, проговорил:
– Ты про себя хоть что рассказывай. А я тебя... все равно любить буду, не запретишь. – Он быстро вышел из квартиры и побежал к лифту.
Слышал сквозь дверь, как из кухни кричит тетя Варя:
– Данила! А обедать?!
Пообедал он у Денисовых. Санькина мама встретила Кинтеля на улице, попросила поднести до подъезда тяжелую сумку, а потом не отпустила: повела "без всяких разговоров" есть суп и сосиски, который раздобыла по великой счастливой случайности. "А то вон какой тощий! В точности как мой обормот..." Кинтель давно уже был в доме у Салазкина своим человеком, стесняться и отказываться не стал. Тем более, что сосиски последний раз он ел в прошлом году.
Отец Салазкина оказался дома, сели обедать вместе. На кухне, по-домашнему. И Кинтель за столом рассказал Александру Михайловичу и Санькиной маме о всех вчерашних приключениях. Многое родители знали уже от Салазкина, но бронзового мальчика видели, конечно, впервые.
– Если бы наш Санечка не расчистил спиной камень, ничего бы не было, – подвел итог Кинтель.
– Вчера вечером сам рубашку стирал, – сказала мама Салазкина. – Чтобы сегодня отправиться в ней в школу. До того упрямый стал...
Бронзовый мальчик стоял среди тарелок и блестел искрой на носу...
Дома Кинтеля сурово встретила Регишка:
– Где тебя носит? Я целый день одна...
– Большая уже. Занялась бы хозяйством.
– Я и так... Пойдем в парк?
– Мартышка, у меня завтра английский. Англичанка грозила парой за четверть тем, кто перевода не сдаст.
Уже пришел отец и грел на кухне ужин, а Кинтель все еще корпел над письменным переводом. Наконец закончил. Теперь не страшно, пускай спрашивают. Надо только для гарантии сверить текст у Алки...
И тут он вспомнил про Алкин подарок. Деревянное яйцо так и лежало в спортивной сумке, под костюмом!
Кинтель вытащил яйцо, покатал в ладонях. Показалось – внутри что-то стукнуло. Разве оно не сплошное? Кинтель поднес яйцо к окну, под вечерние лучи, пригляделся. Тонюсенькая щель делила яйцо пополам. Кинтель сжал скользкое дерево пальцами, поднатужился. Половинки скрипнули, шевельнулись. Кинтель сунул в щель ногти... Ура!..
В яйце пряталась голубая пластмассовая коробочка. В ней, опутанный тонкими проводками, лежал крошечный фонарик.
Он был шестигранный. Из прозрачной пластмассы, витой проволоки и древесного шпона. Такие фонари ставят на моделях старинных кораблей. И Кинтель сразу вспомнил про Алкиного брата, который занимался в судомодельном кружке.
Специально заказывала? Или выпросила готовый? Ну, Алка...
Внутри виднелась лампочка от карманного фонарика.
Стесненно улыбаясь – не столько лицом, сколько в душе, – Кинтель вышел из дому, позвонил Алке из ближнего автомата:
– Привет. Кинтель это...
– А! Здравствуй... – Она как-то грустновато это сказала.
– Слушай, а я ведь только сейчас открыл яйцо-то! Вчера не догадался.
– Ты всегда был недогадливый...
– Ладно тебе! В общем... спасибо.
– На здоровье... Данилка.
С ума сойти! И она туда же!
Но тут Алка сказала уже веселее:
– Там проводки. Соединишь с батарейкой – загорится.
– Конечно! Я понял!
– Вот и хорошо.
– Слушай, Алка... А ты, что ли, специально вчера в такую даль перлась, меня у подъезда караулила? Чтобы подарок отдать?
– Не выдумывай! У нас на Сортировке знакомые, я к ним ездила по делу! А фонарик захватила... так, на всякий случай.
– Врешь небось, – сказал Кинтель задумчиво.
– Ну, считай, что вру... Включишь фонарик – вспомнишь...
– Я тебя, моя овечка, и так всегда помню, – перешел Кинтель на обычный тон. – И сейчас тоже. Ты английский перевела?.. Ой, а почему тебя сегодня в школе не было? – спохватился он. – Завтра-то придешь?
– Не приду, Данилушка, – усмехнулась она. Странно как-то, будто издалека. – Я теперь вовсе не приду.
– Ты... чего это? Почему?
– Завтра уезжаем в Москву. А потом насовсем.
– Как это? Куда?
– Ты глупенький, да?
– Наверно... да, – сказал он без обиды. С неожиданной грустью.
– Туда, куда едут люди с фамилией Шварцман...
– Но... ты же... – Он совсем растерялся. Он же ее, Баранову, с детского сада знал.
– У меня мамина фамилия. А у папы Шварцман... Все документы уже оформлены и визы...
– Ну ты даешь, Алка... – потерянно сказал Кинтель.
– Так что зажигай иногда фонарик...
Кинтель кашлянул и попросил серьезно:
– Давай, Баранчик, встретимся. Хоть на минутку.
– Зачем, Данилка?
– Ну... попрощаемся по-человечески.
– Мы вчера хорошо попрощались. Я тебя таким красивым запомнила... – Опять привычная Алкина насмешливость шевельнулась в голосе. Но чуть-чуть, ласково так...
Кинтель молчал. Алка сказала, как взрослая маленькому:
– Не расстраивайся. Может, я тебе письмо напишу.
– Ты же адрес не знаешь!
– Если бы не знала... как бы вчера оказалась у твоего дома?.. – И пискнуло в трубке, заныли противные гудки.
Постоял Кинтель в будке. Подумал: не набрать ли номер снова? Не решился. Да и что тут скажешь? К тому же и двушки больше не было.
Большой печали Кинтель не чувствовал. Скорее грустную растерянность: "Эх ты, Алка... Как же я теперь без тебя-то? Ни английский сдуть, ни подразнить, как бывало..." Но если копнуть себя поглубже, было за этой несерьезной грустью что-то еще. Более скрытое, тревожное и горькое. Словами не скажешь.
Пришел Кинтель домой, вытащил из старого кас-сетника плоскую батарейку, примотал к язычковым контактам проводки. Загорелась в фонарике желтая искра – славно так! Будто на носу у бронзового мальчика.
Кинтель вспомнил о мальчике и сразу понял, что надо делать! Смастерил из тонкой проволоки крючок, приладил к фонарику. Сунул крючок в кулак мальчишки.
– Вот что у тебя было в руке...
Регишка, примостившись неподалеку, тихонько следила за Кинтелем. Когда фонарик опять вспыхнул – теперь уже у мальчика, – она спросила:
– Мальчик кого-то встречает, да?
– Почему ты так думаешь?
– Светит, чтобы тот не заблудился...
"Как вчера маленький Федор..."
– Да, Регишка. Светит. И надеется...
Тайная, непонятная, ничем вроде бы не подсказанная надежда жила в Кинтеле со вчерашнего дня. Будто мальчик каким-то путем соединит Кинтеля и... ту, кого зовут Надеждой Яковлевной. Соединит в счастливом разрешении загадки... Думать о таком было боязно, и Кинтель инстинктивно отодвигал эти мысли.
Фотография с Теклой Войцеховной, Олей и Никитой висела ниже карты, в некрашеной рамке, которую Кинтель купил недавно у лотошника, в сквере рядом с "Художественным салоном". В самый раз оказалась рамка. Прапрабабушка, Оля и Никита смотрели теперь из нее, как из окошка. На искрящийся фонарик.
"Ты будешь Никита. Как тот, кто тебя спрятал, – мысленно сказал Кинтель бронзовому мальчику. – Никитка, Ник... Ты будешь частичка того Никиты..."
Мальчик не спорил. Фонарик его горел ярко. И этот свет зажег опять крошечную искру на вздернутом носу Ника. Кинтелю вспомнился Новый год, когда они с дедом в комнате с упакованными вещами зажигали на ел-ке лампочки. Тогда тоже вспыхивали искры из меди – на старых, натертых ладонями дверных ручках...
Ручки большие, тяжелые. Из каждой могло получиться несколько таких Ников...
Пришел на ум Андерсен, "Стойкий оловянный солдатик". Кинтель про него еще в детскому саду читал вслух, и ребята слушали (и Алка). "Жили однажды на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были родные братья – матерью их была старая оловянная ложка". Алка тогда еще высказалась: "Ничего себе ложечка. Целый половник, наверно".
Ручки тоже были "ничего себе". Тяжелые. Сделанные, наверно, еще во времена декабристов. Небось их уже отодрали какие-нибудь любители наживы. Дом пустой, лазят в него кому не лень. Вот скоро начнется ремонт, подвезут стройматериалы, тогда "Орбита" выделит сторожа. А пока тащат все что можно. На первом этаже рамы повынимали со стеклами...
Жаль, если ручки свинтят. Почему он раньше не сообразил, что надо их забрать? Прабабушка, мама Толича, говорила, что трогать их – дурная примета. Но это когда семья жила в том доме. А сейчас-то что! И дом пуст, и прабабушки давно нет...
А ручки, они же просто музейные! И к тому же если их привинтить к здешним дверям – это была бы частичка прежнего родного гнезда!
До чего же досадно, что разумные мысли приходят в голову после...
А может, еще не поздно? Может, мародеры не обратили на ручки внимания?
Кинтель заторопился. На кухне, в ящике с инструментами, взял большую отвертку, стамеску и молоток. Украдкой уложил их в школьный портфель. Жаль, что не было в доме карманного фонарика. Взять тот, что у Ника? Но много ли света от лампочки-крохи без рефлектора. Да и не хотелось обижать бронзового мальчишку, отбирать подарок. И Кинтель отыскал в кухонном шкафу стеариновую свечку, прихватил коробок со спичками. Так даже интереснее – будто Том Сойер...
Регишка заметила, конечно, что он куда-то собрался.
– Даня, ты уходишь?
Отец тоже встревожился:
– Куда на ночь-то глядя?
– К деду пойду ночевать. От него до школы ближе, а завтра у нас нулевой урок, с семи пятнадцати. Подготовка к контрольной по алгебре.
Это была правда, про урок-то. Но главное – не придется сегодня возвращаться на Сортировку, можно не спешить.
Поверх отрядной формы Кинтель натянул спортивный костюм. Не потому, что холодно, а для маскировки – чтобы не светиться там, у подхода к дому, позументами и незагорелыми ногами.
Регишка спросила печально:
– А мальчика с фонариком с собой возьмешь?
– Нет, Мартышка, играй с ним... А завтра приду из школы, и поедем к Корнеичу. Муреныш по тебе соскучился... Пап, я пошел!