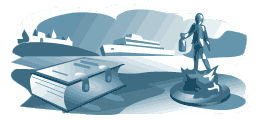ПУСТОЙ ДОМ
Тетя Варя всю жизнь работала медсестрой. Сперва обыкновенной, потом старшей, потом сестрой-хозяйкой. Она была невысокая, сухонькая, быстрая, с решительным нравом. Казалось, ее с рождения запрограммировали на преодоление жизненных трудностей. С дедом они были знакомы со школьных или даже с дошкольных времен (как Алка Баранова и Кинтель). Была ли между ними когда-то жаркая любовь, Кинтель не знал. Но то, что два дружных пожилых человека решились сойтись и жить вместе, чтобы не коротать век вдовой и бобылем, Кинтелю было понятно. Тем более, что тетя Варя ему нравилась. Он всегда покорялся ее веселому напору. И даже безропотно сносил от нее всякие процедуры и уколы, когда схватил однажды жестокую ангину.
И все-таки, все-таки... Что-то последнее время было не так. Засел в глубине души колючий шарик досады. И порой хотелось огрызнуться или хлопнуть дверью. Может, правда – переходный возраст? Или догадка, что в общем-то он, Кинтель, нужен тете Варе далеко не в первую очередь (или даже совсем не нужен). А прежде всего нужен ей Толич.
Впрочем, Кинтель сдерживался...
Переехали в конце января. Новая квартира была в пяти кварталах от прежней, в девятиэтажном корпусе на улице Титова. На шестом этаже. Трехкомнатная, с телефоном. Одну комнату Кинтелю выделили в полное распоряжение. И оказалась она гораздо больше той, в которой он обитал раньше. Живи да радуйся.
Но Кинтель не радовался. Раздражал его невысокий потолок, узкие (ненастоящие какие-то) подоконники, постоянный шум улицы за непривычно широким окном. Все чужое...
Чтобы не порвать с прошлым окончательно, Кинтель постарался собрать в своей комнате побольше привычных вещей. Хмуро, не спрашивая деда, повесил над своим столом старую карту полушарий, а над постелью – портрет прапрабабушки. Толич не спорил, вздыхал только.
Первые ночи на новом месте Кинтель почти не спал. Мешал рокот моторов, мешали чьи-то шаги вверху, над потолком. Казалось, что и снизу, и даже из-за стен слышны чужие голоса...
Кинтель жаловался Салазкину:
– Понимаешь, как-то жутко даже делается, когда представишь: над тобой люди, а над ними еще, а над теми снова... И внизу тоже. И по сторонам... Какое-то многоклеточное пространство, у меня голова пухнет.
Салазкину, который с рождения жил в многоэтажных громадах, такие чувства не были знакомы. Но он сочувственно кивал.
Впрочем, с Салазкиным Кинтель теперь виделся реже. После зимних каникул семиклассники стали учиться в первую смену, а пятиклассники остались во вторую. Так что можно было встречаться по вечерам, на короткое время, или в выходные. Чаще всего встречались у Корнеича. "Тремолино" собирался там в среду и в воскресенье. Чаще было неудобно: у Корнеича и Тани и без этого дел невпроворот: и работа, и семейные заботы, и учеба. Только Муреныш там дневал и ночевал...
В среду сбегались вечером, на часок, а в выходной бывало, что и на полдня: строили планы на лето, мечтали о новой шхуне, раскидывали на полу громадную карту для игры... Но были и учебные занятия: по устройству судна, по морским узлам, по сигналам, по маневрированию парусников. И тут Корнеич спрашивал строго. Даже с Муреныша и маленького Костика...
В новой квартире хватало забот: каждый день надо было что-то прибивать, переставлять, налаживать. Больше времени стало уходить и на другие дела. С продуктами в январе сделалось совсем паршиво, даже на хлеб ввели талоны. И конечно, всюду очереди. Торчишь перед булочной на морозе среди скандальных теток три часа ради двух батонов... Да что там хлеб, если даже соль по талонам! И цены совершенно взбесились. Называлось "либерализация", то есть "освобождение"... На фиг она нужна такая свобода! Правда, зарплату людям тоже повысили. Но толку-то... Дед однажды принес аж целую тыщу. Двумя бумажками по пятьсот рублей. Похвастался ими перед Кинтелем. Но тут же добавил, что раньше на такие деньги семья могла тянуть полгода, а теперь куда их? Только... Да и то не годятся, потому что бумага жесткая...
В очередях говорили, что правительство совсем спятило, и на кой черт надо было в августе строить баррикады и защищать демократов. Кое-кто, однако, за правительство заступался (больше мужики): мол, президент и министры сами хлеб не сеют, и, если семьдесят с лишним лет коммунисты доводили матушку Россию до ручки, чего теперь искать виноватых. Ладно, что хоть нет пока стрельбы, как в Карабахе и Цхинвали...
А в школе уроков стали задавать столько, что, если все готовить, суток не хватит. Особенно старалась учительница, пришедшая вместо Дианы. Умная тетка, рассказывала интересно и не орала зря, но замучила сочинениями. Кончилось тем, что семиклассники создали стачечный комитет во главе с Артемом Решетило. Комитет потребовал: сократить домашние задания так, чтобы тратилось на них не больше часа. Потому что домой приходишь после двух, а в три уже сумерки, голова гудит, и тянет в сон от такой жизни. А кое у кого дома еще и батареи не работают. Попробуй попиши, когда руки стынут... Педсовет, конечно, в крик:
– Если хотите бастовать, а не учиться, скатертью дорога! Нынче никого насильно не держат!
Семиклассники в ответ:
– А вы не бастовали, да? Сами затянули программу, а теперь на нашем горбу...
Учителя сдали позиции. А домашние сочинения с перепугу отменили совсем...
Как ни занят был каждый день Кинтель, а все же выпадали и свободные часы. И куда деваться? Салазкин в школе, Корнеичу надоедать неловко. И от такой неприкаянности да еще от печали по старому гнезду начал Кинтель захаживать на родную улицу Достоевского. Там пацаны залили на пустыре каток и соорудили изрядных размеров ледяную горку. Побалдеешь в шумной компании, разомнешься – и легче на сердце.
А иногда пробирались в старый дом. Он стоял теперь пустой и темный. Последнее семейство, с Витькой Зыряновым, выехало почти сразу за Рафаловыми. Окна были заколочены, но никто дом, конечно, не охранял: откуда у ЖКО ставка для сторожа?
Во всех квартирах в свое время были поставлены батареи, но печки сохранились. В кухне на первом этаже ребята облюбовали маленькую плиту. У нее-то и собиралась иногда "достоевская" компания. Разожгут дрова, сядут у раскрытой дверцы на чурбаках, грызут семечки, травят анекдоты. Хорошо у огонька, хотя порой и грустно почему-то...
Джула сказал однажды:
– Ты, Кинтель, как уехал, дак чаще прежнего бывать с нами стал.
– Ностальгия...
– Чего? – удивился необразованный Эдька Дых.
– Тоска по родине, дубина, – сказал ему Джула. – Это по-научному, тебе не понять.
– Где уж мне, с "дворянами" не дружим.
– А они там не люди, что ли? – огрызнулся Кинтель.
– Да вроде люди, – сказал Джула. – Команду склепали, пришли к нам на каток: айда, ребята, "шайбу-шайбу". Ну ничего, поиграли. Один раз только драчка вышла, один у них там шибко нахальный...
– А все равно мы их на нашу горку не пускаем, – гордо заявил Гошка Полухин, именуемый Рюпой.
Джула возразил:
– Это смотря кого. Санька Денисов, дружок твой, Кинтель, тут часто крутится по утрам. И еще несколько. Ничего, нормальные парни...
– Вы только сюда Саньку не зовите, – попросил Кинтель. – Незачем ему...
– Это само собой, – согласился Джула. И достал мятую полупустую пачку "Космоса".
Компания обрадованно охнула. Закурили все, кроме Рюпы, которому Джула показал дулю: "Подрасти сперва". Посмолил сигарету и Кинтель. Не потому, что хотелось, а так, под настроение. Старые приятели во-круг...
Во рту потом было противно, по дороге домой Кинтель плевался и даже снег пожевал, дома старался дышать осторожно, в сторонку. Но дед унюхал:
– Табачком баловаться изволили? А как же наш обет?
– Это ж когда было!.. А ты тоже нарушал! Обещал больше одной рюмки вечером не принимать, а сам...
– Ты не выкручивайся.
Но Кинтель выкручивался:
– Я и не затягивался, просто так в рот сунул разок, за компанию...
Тетя Варя сказала почти всерьез:
– Еще раз такое дело, и сниму я с тебя штаны. Такую "компанию" пропишу... У меня медицинский жгут есть, первое средство от любви к никотину.
Кинтель вспомнил Салазкина, хмыкнул, поежился. Перевел все в грустную шутку (в шутку ли?):
– Вот уйду я от вас, будете знать...
– Куда это ты уйдешь? – насмешливо спросил дед.
– Найду куда... Обратно в старый дом!
– Валяй... Только его вот-вот сроют.
– А вот это уж фиг!
У Кинтеля прорвалась торжествующая нотка. Потому что он знал: Корнеич не сидит сложа руки. Насчет дома развернул он бурную кампанию. Уже была договоренность с кооперативом "Орбита" (где работал теперь бывший трудовик Геночка), что дом общими силами постараются отстоять. И тогда одна половина помещения – "Орбите", а другая – "Тремолино". И "Орбита" обещала даже сделаться спонсором отряда. Потому что для кооператива выгодно помогать детскими коллективам, меньше берут налогов. Да и вообще ребята в "Орбите" были неплохие, готовые помочь не только ради выгоды, но и от души. Двоих там Корнеич знал еще с афганских времен.
Чтобы легче было отстоять дом от разрушительных архитекторов, Корнеич в музее раскапывал сведения о декабристе Вишневском. Никаких документов, что Вишневский жил на улице Достоевского (бывшей Купеческой), не нашлось. Но имелись сведения, что он все-таки бывал в Преображенске. И Корнеич на свой страх и риск пустил по городу слух, что чиновники готовятся снести дом, связанный с историей декабристов. Заволновалось Общество охраны памятников...
А людям из отряда "Тремолино" уже снились комнаты морского штаба, украшенные картами и атрибутами корабельной жизни. И музей парусного флота с портретами моряков-декабристов. И мастерская, где растет на стапеле корпус новой шхуны...
Может, недалеко уже время, когда оживет старый дом, вспыхнет в его окнах свет.
Кинтель зажмурился и будто наяву увидел, как в доме одно за другим загораются высокие окна. И тут вспомнил другое окно – то, на пятом этаже. На улице П. Морозова.
Кинтель ходил туда после зимних каникул несколько раз, но каждый вечер окно было темным. И такая же темная тревога приходила к Кинтелю. Подумалось даже: "А вдруг она после той открытки уехала насовсем? Потому что не хочет ничего знать про меня..."
Не выдержал Кинтель, поделился тревогой с Салазкиным.
Тот смутился почему-то, но постарался успокоить Кинтеля:
– Может, уехала в отпуск. Или работает сверхурочно, машинистки теперь нарасхват. Папе надо было статью перепечатывать, и он еле договорился...
Возможно, все было именно так. Но тоскливое беспокойство порой накатывало на Кинтеля. Накатило и сейчас. К счастью, затрезвонил в прихожей телефон. Тетя Варя сказала:
– Ваша табачная светлость, возьмите трубку.
Кинтель взял. И обрадовался:
– Салазкин! Ты откуда звонишь?
– От подъезда... Даня, можно я у тебя переночую? Мама с папой на свадьбу к знакомым уходят, а мне... ну не хочется одному. И мама волнуется: вдруг, го-ворит, ночью грабители загребут тебя... Меня то есть...
– Чего ты долго объясняешь! Беги скорее!
Салазкину и раньше случалось ночевать у Кинтеля. Так, для интереса. Хорошо лежать в полумраке и шептаться до середины ночи обо всем на свете.
Тетя Варя догадалась, о чем разговор.
– Вот и хорошо. А то мы с Толичем в кино собрались. – Она деда тоже называла Толичем. – На восемь часов. "Унесенные ветром", три серии. Придем к полуночи...
– Гуляйте, ваше дело молодое, – буркнул Кинтель. Увернулся от подзатыльника.
Тетя Варя спросила:
– Надеюсь, ты не с Саней приобщался к никотиновому зелью?
– Еще чего! И не вздумайте ему сказать!
– Тогда иди вычисти зубы, а то и говорить не надо...
Кинтель добросовестно вычистил.
Салазкин появился на пороге, когда дед и тетя Варя уже ушли.
– Ты не думай, что я боюсь один дома оставаться. Просто...
Кинтель втащил его в комнату:
– Ух и промороженный! Пошли чай пить. Полбанки сахарной смородины в полном нашем распоряжении.
Усидели эти полбанки. Порассуждали про отрядные дела, посмотрели с середины вторую серию "Узника замка Иф", потом – программу новостей. Новости все были уныло-скверные.
Затем на экране заплясали длинноногие девицы в чулках с подвязками и без юбок. Кинтель плюнул. В одиночку он, может, и поглядел бы с минуту на такое дело, но при Салазкине стеснялся. Переключил. По второй программе шел концерт иного рода. Певец в длиннополой шинели надрывно вопрошал:
Поручик Голицын! А может, вернуться?!
Зачем нам, поручик, чужая земля?!
Хорошая песня, но сколько можно одно и то же! Тем более, что было ясно: возвращаться нельзя. Иначе – обрыв над морем и хриплые от натуги пулеметы...
По Ленинградскому каналу мелькнул обрывок мультика, потом диктор сказал, чтобы смотрели передачу "Этот непростой девяносто первый" – по итогам прошлого года. И началось опять то, что видели тысячу раз: бывший вице-президент Янаев, страдающий насморком и дрожанием рук; танки перед Белым домом, депутаты, президенты, генералы... Пустые постаменты памятников. Потом – кричащие женщины-осетинки, бой на проспекте Руставели в Тбилиси, пальба в Карабахе... И мальчик лет восьми с черными пробоинами на белой рубашонке – упал ничком и в предсмертном усилии пытается вцепиться в асфальт...
– Ну что за гады... – со стоном сказал Кинтель. – Ну совсем уж сволочи психопатные... – Он опять включил Малинина, убавил звук.
Салазкин сказал:
– Меня мама в магазинные очереди не пускает. Говорит, на той неделе в гастрономе на Кировской мальчика задавили насмерть. Толпа к прилавку разом придвинулась, а там поручень такой из трубы. Его как раз шеей на эту трубу...
– Слышал я... Ну и правильно, что не пускает тебя...
– А кто должен? Они с отцом оба на работе...
Кинтель выключил телевизор.
– Давай ляжем. И поразговариваем...
– Да! О чем-нибудь хорошем, – согласился Салазкин. Но как-то неуверенно.
Разделись, залезли под одеяла. Кинтель – на свой старый диван, Салазкин – на раскладушку. Кинтель оставил включенной настольную лампу. Помолчали. Ничего хорошего для разговора в голову не шло.
– Дед хочет свою коллекцию значков в комиссионку отнести, – вздохнул Кинтель. – Потому что зар-плату сколько ни прибавляют, а цены еще страшнее скачут, как бешеные... Я говорю: не надо, протянем как-нибудь...
Салазкин неуверенно спросил:
– А отец... он не помогает?
– Подбрасывает иногда. Но ему еще и тете Лизе с Регишкой платить приходится.
– Алименты?
– Ну вроде. Только не по суду, а он сам... А мне сказал: "Я ведь тебя не прогонял. Жили бы вместе, и никаких вопросов..."
В этот миг проснулся телефон. Кинтель побежал в прихожую. Крикнул оттуда:
– Салазкин, это тебя!
Звонила мама.
– Ну да! Конечно! – досадливо отвечал Салазкин в трубку и переступал босыми ногами. – Не волнуйся ты, пожалуйста, все у нас в порядке. Мы уже легли... Ну и что же, что рано! Поболтаем, потом спать... Ты больше не звони, а то мы уснем, а тут опять тре-звон... Спокойной ночи.
Он вернулся, сел на раскладушку.
– Что поделаешь? Она всегда такая беспокойная из-за меня...
– Радуйся, глупый. Ты же счастливый...
Это у Кинтеля впервые вырвалось такое. Неожиданно.
Салазкин быстро глянул исподлобья. Зацарапал на колене родинку. Кинтель проговорил уже иначе, грубовато:
– Ложись давай. А то простынешь, от окошка тянет...
Салазкин не лег.
– Даня... я хочу тебе признаться... – Он вдруг встал, щуплый, виноватый, затеребил подол майки.
Кинтель дернулся от испуга за него:
– Что случилось?
– Даня... Дело в том, что я знаю, почему в окне было темно. Там...
Кинтель приподнялся. Салазкин говорил почти шепотом:
– Я тебе не рассказывал, чтобы не расстраивать. Но я узнал там, у соседской девочки. Она сказала, что Надежду Яковлевну увезли в больницу. Прямо в Новый год...
– Что с ней?!
– Этого я не знаю... Но ты не бойся, теперь она уже вернулась! Честное слово!
– Откуда ты знаешь? – Кинтель уже сидел. А сердце стукало неровно, нехорошо так.
– Я узнавал. И окно вчера светилось, я сам видел...
– Правда?
– Да!.. Ты не сердись, Даня... Ты все равно ничем бы не помог, только измотался бы весь...
Что было делать? Выругать Салазкина? Но он и так вон какой несчастный... Да и в этом ли главное?
– Но оно правда светится?
Салазкин растопырил локти и приложил к груди кулачки:
– Я же сказал!
Кинтель помолчал, зябко потирая плечи. И жалобно попросил:
– Санки, давай съездим туда, а? Сейчас... Если она правда дома, то, наверно, еще не легла и в окошке опять свет...
"Я понимаю, Санки, что это глупость. Бредятина просто. Но я не успокоюсь, пока не увижу сам. Ты, наверно, думаешь: вот дурак, переться по морозу..."
– Или ты лежи, а я сгоняю один. Я быстро...
– Ты определенно спятил. "Один"! – И Салазкин прыгнул к табурету с одеждой...
Окно светилось. Над мохнатой от инея изгородью, над заснеженными ветками горел в искрящемся от мороза воздухе желтый прямоугольник складчатых, просвеченных лампой штор. И даже неторопливая тень прошла по ним один раз.
Стояли недолго. Колючий холод хватал за щеки, за нос.
– Все в порядке, – выдохнул Кинтель и ощутил, как из губ рванулся теплый парок. – Пошли, Санки...
Они зашагали назад по скрипучей от плотного снега аллее. Опустевший постамент памятника весь был в изморози, она серебрилась под фонарем. И какой-то гад вывел на ней пальцем кривую свастику. Кинтель стер ее двумя яростными ударами варежки. Вдали звякнул трамвай.
– Бежим, Санки...
Когда вернулись, то еще через дверь услышали, как надрывается телефон.
– Это наверняка мама! Даня, скажем, что крепко спали!
Но это была не мама Салазкина. Незнакомый мужчина озабоченно спросил:
– Извините, это квартира Виктора Анатольевича Рафалова?
– Да... Но его сейчас нет.
– Простите, а вы, наверно, Даня?
– Да... – От непонятного страха стало пусто в груди.
– Видите ли какое дело. Вам звонит сосед... бывшей жены вашего папы. Ее неожиданно увезли в больницу. А девочка вся в слезах. И очень просится к вам... Вы меня слышите?
– Да... – потерянно сказал Кинтель. И встряхнулся. – Да, я слышу! Мы едем сейчас!
– Видите ли, она могла бы побыть и у нас. Но очень плачет: только к Дане, и ничего другого...
– Я понял! Я еду!
– Простите... именно вы?
– Но дедушки же нету! Он придет совсем ночью!
– Не надо ехать. У меня рядом гараж, и машина, к счастью, на ходу. Я привезу девочку сам.