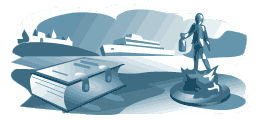ГЕРОИ И НЕ ГЕРОИ
Ветер менялся постоянно. Это затрудняло маневрирование обеих эскадр в узкостях Лимонного архипелага. Угадать изменения ветра было немыслимо. Они зависели не от законов природы, а от волчка. Его крутил Муреныш. Нравилось Муренышу быть в должности ВВВ – Владыки Всех Ветров. Хотя, по правде, владычества здесь не было, все зависело от того, каким краем упадет волчок на карту Семи морей и Нетихого океана. Картонный кружок, надетый на спичку, был восьмигранный, на каждой грани – название компасного румба. Лег волчок на карту "норд-вестом", значит, и ветер с северо-запада. Упал "зюйдом" – значит, с горячего побережья Сэндландии дует южный, с запахом раскаленного песка "Дракон пустыни"...
Играли семеро: Кинтель, Салазкин, Паша Краузе, Дим, Андрюшка Локтев, Не Бойся Грома и Муреныш. Все, кроме Муреныша, были капитанами кораблей или даже соединений.
Корнеич сидел тут же, но не играл. В углу, у журнального столика с лампой сочинял для газеты статью о том, как паршиво организованы в Преображенске зимние каникулы: на главной площади у елки – разгул шпаны, ребятам опасно соваться; в кино – сплошной американский мордобой; половина катков не работает...
Ромку отправили в гости к тетушке – старшей сестре Корнеича, тете Юле, – это было очень кстати. А то двухлетний флибустьер имел обыкновение врываться в комнату и громить все эскадры, не разбирая, где флот адмирала Розенбаркера, а где корабли славного Диего де Нострапустры... Серого разбойника Бенедетто, который тоже не прочь был поиграть корабликами, заперли на кухне. Таня, правда, это не позволяла, но сейчас ее не было дома: готовилась в институте к сессии заочников. И морское сражение разгоралось без помех, наполняя комнату невидимым дымом канонады и боевым азартом...
За бригом "Арамис", которым командовал Салазкин, гнались Виталькин фрегат "Афродита" и трехдечный линейный корабль Паши Краузе "Три Адмирала". Вот-вот прижмут к отмели плоского острова Черная Поясница. Но тут Муреныш принес Салазкину удачу: волчок показал, что задул спасительный зюйд-ост. "Арамис" увалился до фордевинда и лихо ринулся в узкую протоку Кишка Крокодила, которая разрезала остров надвое. "Афродита" и "Три Адмирала" с величайшей досадой прекратили погоню: сунуться за "Арамисом" не позволяла малая глубина Кишки.
Ловкий маневр Салазкина позволил не только спасти бриг, но и вообще изменил ход сражения. У подветренного берега Черной Поясницы Кинтель на сорока-пушечной "Оранжевой Звезде" отбивался от могучего линейного "Гаргантюа", на котором воевал Дим. Виталик на "Красотке" спешил "Звезде" на помощь, но не успевал. "Арамис" вырвался из протоки и первым же залпом сделал в "Гаргантюа" дыру ниже ватерлинии. Тот осел на левый борт и два хода подряд не мог вести огонь...
Артиллерией всех кораблей распоряжался Андрюшка. Еще он командовал шхуной "Флейта", но ее к тому времени утопили, и Андрюшка весь отдался "огненной потехе": азартно швырял на кожу гулкого барабана разноцветный кубик. Три грани кубика – белые, это значит промах. Одна желтая – попадание в надводную часть. Одна коричневая – повреждение рангоута и такелажа. А самая грозная – голубая: пробоина в подводной части. Вода хлещет, матросы кидаются к помпам, капитан орет: "Спокойно! Паникеров вышвырну за борт! Заткните дыру коком, он самый толстый!"
Извечное стремление Андрюшки к справедливости исключало всякую возможность, что он станет подыгрывать той или иной стороне.
...Пока "Гаргантюа" чинился, беспомощно обезветрив паруса, подоспела "Красотка", и под боевые вопли капитана Не Бойся Грома три судна пустили несчастный линкор в пучину Нетихого океана.
– Будем лежать на дне, трам-пам-пам, – печально мурлыкал Дим, – в синей прохладной мгле, трам-пам-пам... – Потом сказал: – Тебе повезло, Санечка, с зюйд-остом. А то оказался бы как бриг "Меркурий" перед "Селемие" и "Реал-беем".
– Ну и оказался бы! – храбро заявил Салазкин. – Может, и отбился бы!.. И Корнеич в мой герб пожаловал бы рисунок пистолета. Как Николай Первый офицерам "Меркурия".
Корнеич уже не сидел над статьей. Он стоял над расстеленной на полу картой и задумчиво тер щетинистый подбородок.
– Здесь не очень-то похоже на ситуацию с "Меркурием"...
– Потому что перед "Меркурием" было открытое море, свобода маневра, – тоном знатока заметил Не Бойся Грома.
– Не в этом даже дело... – Корнеич, скрипнув ногой, сел на корточки. – Тут надо учитывать все сопутствующие обстоятельства. Может, Николай и не стал бы так возвеличивать подвиг "Меркурия", если бы не другие события. Нужно было в тот момент особо подчеркнуть, что есть на Черном море русские герои. Чтобы затушевать другие случаи, негероические...
– "Рафаил", да? – тихо спросил Кинтель. Не хотелось ему об этом, неуютно стало, но удержаться не смог.
– Да... – вздохнул Корнеич. – И кстати, сдача "Рафаила" спасла, скорее всего, от неприятностей командиров брига "Орфей" и фрегата "Штандарт". Конечно, можно по-всякому судить их поведение, но как ни крути, а "Меркурий" они бросили. Умчались от турок благодаря хорошей скорости, а Казарского оставили на разгром... А потом, услышав канонаду, приспустили флаги: прощай, дорогой товарищ. Думали, что конец... Царь, видать, решил с ними не разбираться, чтобы не раздувать скандал, хватило и Стройникова...
Судя по всему, Корнеич хорошо знал этот случай. Да и другие были не новички в морской истории. Только Муреныш хлопал глазами.
Дим возразил:
– Все равно "Орфей" и "Штандарт" ничем не помогли бы "Меркурию". У турков же целый флот был, одних линейных кораблей шесть вымпелов. Никакой пользы от такого боя...
– Ну да, – хмыкнул Корнеич. – Их рассуждения были признаны здравыми. Товарища бросить – это все-таки не флаг спустить. Можно сохранить видимость приличия. А вот капитана Стройникова не простили. И офицеров его. Трусы, говорят...
Что-то похожее на рассуждения деда было в тоне Корнеича. И Кинтель спросил с надеждой:
– А может, и не трусы, а... совсем другое здесь?
Корнеич внимательно посмотрел на Кинтеля. Словно догадывался о чем-то! (А ведь он ни о чем не знал, и ребята не знали, даже Салазкин.)
– Думаю, что было другое, – понимающе сказал Корнеич. По-мальчишечьи потер подбородок о колено, повертел в пальцах бриг "Арамис", поставил на карту. – Думаю, там, на "Рафаиле", столкнулись две правды...
– Разве так бывает, что две? – придирчиво спросил Андрюшка.
– Порой случается... С одной стороны присяга, честь флага и достоинство военного моряка. А с другой – заповедь Божья: "Не убий..." Мне кажется, Стройников ужаснулся, когда понял, что своим приказом к бою он просто-напросто убьет две с лишним сотни человек. Причем это ради одной идеи, потому что на исход войны тот бой, конечно, никак не влиял... Стройников не за себя испугался... Ведь после плена матросы могли вернуться, служить дальше, потом прийти в свои деревни, жить, землю пахать, детей растить... А он все это должен был зачеркнуть одной командой... Конечно, высокая доблесть – взорвать себя, не сдаться врагу. Но мне кажется, Стройников счел, что есть еще более высокая доблесть. Пожертвовать своим именем, честью, шпагой, свободой, чтобы спасти других. По-моему, он знал, на что идет... И сколько матросских жен и детишек потом в сельских церквях за него свечки ставили...
"И я должен..." – толкнулось в Кинтеле. Но он проговорил со стыдливым упрямством:
– А чего же он, Стройников-то, в рапорте все на матросов свалил? Будто они не захотели воевать до смерти...
– Может, и правда кто-то не захотел, зароптал. Живые люди ведь... А суд не стал это подтверждать. Царю не понравилось бы, что на одном корабле столько трусов... А может, Стройников, когда все было позади, испугался уже за себя, решил таким образом оправдаться. У всякой человеческой твердости есть предел, и когда спадает напряжение, может насупить слабость... Бывает такое...
Он замолчал, и ребята тоже молчали. Со скрытой неловкостью. Потому что почуяли: говорил Корнеич не только про давние морские бои. Еще и про свою войну.
И может, чтобы сбить напряжение, Паша Краузе кашлянул и вспомнил:
– Вот у декабристов тоже... Я читал недавно. Вроде все были храбрые, с Наполеоном воевали, а после восстания... в общем, некоторые и на допросах раскалывались, и друг на друга...
Корнеич, словно встряхнувшись, заступился за декабристов:
– Но потом, в тюрьме и в ссылке, ни один не упрекал другого. Хватило совести и чести...
А Кинтелю было хорошо, тепло так от этого, что здесь его спасли наконец от вины за "Рафаил". Корнеич спас. Конечно, никто не снимет официальных обвинений с капитана Стройникова, но теперь за него можно заступиться. Потому что в самом деле – сколько свечек было поставлено в память о нем!..
А разговор о декабристах показался Кинтелю тоже не случайным. Так бывает часто: одно как по заказу увязывается с другим. Кинтель весело поделился с друзьями:
– А в нашем доме тоже декабрист жил. Лейтенант Вишневский, из гвардейского экипажа. Мне дед рассказывал недавно...
Этот разговор с дедом случился накануне Нового года.
В декабре квартирные дела начали разворачиваться на удивление бойко. Уже нашлись желающие обменять свое трехкомнатное жилье на квартиру тети Вари и на новую однокомнатную, которую получит дед. И он должен был ее вот-вот получить, да в последние дни какие-то проходимцы устроили "поганую волокиту" с ордером. Ссылались то на предстоящую приватизацию жилья, то на неясности с законами.
– Ждут, когда я им "на лапу" положу! – негодовал дед. – Черта с два! Не дождутся, паразиты!.. Превратили СССР в СНГ, а кавардак остался прежний, что в Союзе, что в Содружестве... Тоже мне "содружество"! Две республики выясняют отношения с помощью ракет и тяжелой артиллерии, а остальные ничего не могут сделать...
– Тебя бы туда, ты навел бы там порядок, – ворчала тетя Варя.
– Меня там только и не хватало... Внутренние войска и те из Карабаха драпают.
– Тогда сиди, не воюй.
Но дед остывал не сразу и минут пять еще ругал и политиков, превративших страну черт знает во что, и чиновников, из-за которых Новый год придется встречать на прежнем месте, среди собранных заранее узлов, коробок с имуществом и увязанных в пачки книг.
– Ну и встретим! – не унывала тетя Варя. – И не такое бывало! А уж в новом году с новыми силами – переезд!
Несмотря на дикие цены, она купила на рынке килограмм говядины и полкило свинины, сделала фарш, раскатала тесто и усадила Кинтеля и деда лепить пельмени.
Пельмени Кинтель любил. Но сейчас веселому тети Вариному напору подчинился насупленно. Порой ему казалось, что тетя Варя командует им чересчур энергично и придирчиво. Будто он сам не знает, какие дела ему делать! До недавнего времени был хозяином в доме пу-ще деда, а теперь... Нет-нет да и вспоминался ему ноябрьский разговор с отцом. И думал Кинтель: "Если здесь такое, то на новом месте еще хуже начнется... А может, это нарочно? Чтобы я сам запросился к отцу..."
Впрочем, на этот раз Кинтель дулся лишь минуту. В новогоднем вечере всегда есть какой-то намек на сказочность, и не хотелось разбивать это настроение.
Готовые пельмени тетя Варя вынесла на мороз, а из дровяника притащила елочку. Славную, разлапистую.
– Вот! Утром какой-то пьяница у гастронома продавал.
Дед заворчал. Он считал, что можно обойтись искусственной елкой, незачем губить природу.
– Так все равно уже срублена! Пускай будет у нас! – весело спорила тетя Варя. – Я с детства люблю, как елкой пахнет... Вы наряжайте, а я еще пробегусь по магазинам...
Кинтель тоже любил новогодний запах елки. Не сравнить с искусственной. И елочные игрушки любил. Среди них было несколько старинных: стеклянный полумесяц с потертой позолотой, картонный домик, в который раньше вставляли свечку, пять шаров с картинками, ватный лягушонок. Может быть, их вешали на рождественские елки еще Оля Чернышева и Никита Таиров.
Кинтель вдруг подумал, что этим игрушкам потом, на новой квартире, будет неуютно, непривычно. И портрету прапрабабушки. И старой карте. Она ведь всегда висела здесь.
– Жалко... – вздохнул Кинтель.
– Что? – насторожился дед. Он осторожно вешал на елку розовый шар.
– Вообще... Плохо, что ли, нам тут жилось? Не тесно вроде...
– Все познается в сравнении. Поживешь на новом месте, обратно не захочешь...
– Обратно и не получится, разломают... Ну зачем разрушать-то? Крепкий еще дом. Можно было бы в нем какие-нибудь мастерские сделать. Или библиотеку. Вон детская библиотека на Первомайской в какой конуре...
– Я говорил в исполкоме. Чего, говорю, спешите-то? Ломать – не строить. А они все то же: генеральный план, магистраль от реки до театра... Не убедил. Говорят, сохраняются только памятники истории и архитектуры.
– А у нас, что ли, не памятник? Двести лет!
– И про то говорил. Мало того, вспомнил даже, что здесь одно время декабрист Вишневский жил. Управлял горными заводами в сороковых годах...
– Правда?! – подскочил Кинтель.
– Были такие слухи...
– А ты мне никогда не рассказывал!
– Я думал, ты знаешь... Да и чего рассказывать-то? Документами это не подтверждается. Может быть, просто легенда. Хотя мама говорила, что карта наша именно от него осталась...
– Ну, Толич, ты даешь... – обиделся Кинтель. – Ни разу ни словечка!.. Ну-ка, рассказывай.
– Ох и вреден ты стал... Ладно. Федор Гаврилович Вишневский. Как все тогдашние офицеры флота Российского, окончил Морской корпус. Под командой капитана Лазарева ходил вокруг света на фрегате "Крейсер". На том самом, где был тогда и... – Дед вдруг замялся. Чертыхнулся шепотом, будто не может надеть петельку шара на колючую ветку.
– Где был тогда и Павел Степанович Нахимов, будущий адмирал, – ровным голосом закончил Кинтель. – Толич, ты по правде думаешь, будто при имени Нахимова меня колотит нервная дрожь? Хватит уж... Одно дело пароход, а другое адмирал...
– Так мне старому... – с досадливым удовольствием сказал дед. – Хорошо. Поехали дальше... К моменту восстания было лейтенанту Вишневскому двадцать четыре года. Как сей офицер оказался среди заговорщиков, непонятно, в Тайном обществе он не состоял. Однако же восставших поддержал, отказался присягать Николаю, роту свою, что была в составе матросского гвардейского экипажа, вывел на Сенатскую площадь... Но тем и кончилось. Постояли на площади, увидели, что дело провалилось, и пошли обратно... А ночью голубчика взяли, как и многих... Ну, в разряд главных бунтовщиков Вишневский не попал. На допросах он упорством и доблестью, видимо, не блистал, утверждал, что старался удерживать своих матросов от активных действий. Что еще говорил, не знаю. Читал только, что Николай отмечал где-то: мол, показания Вишневского довольно любопытны... До суда помотали его по разным крепостям, потом сослали солдатом на Кавказ, через несколько лет он выслужился в мичмана, побыл еще на флоте, ушел в отставку. После того и сделался чиновником в Управлении горных заводов... Но я не уверен, что здесь жил именно он. Возможно, что его брат или даже однофамилец...
– Что ж это он из моряков-то ушел?.. – недовольно заметил Кинтель.
– Может, по службе продвижения не давали или здоровье подвело... А возможно, и не был он сильно привязан к морской жизни... Другой декабрист-моряк, Завалишин, отзывался о нем в своих записках весьма нелестно. И вроде бы капитан Лазарев на "Крейсере" тоже не очень-то Вишневского любил...
– Подумаешь. Мало ли кого начальство не любит, – буркнул Кинтель. Ему стало обидно за Вишневского.
– И один из Бестужевых, Павел, по-моему, тоже писал о нем не слишком хорошо. Что Федор Гаврилович был человек неглупый и добрый, но все время роптал на свою судьбу, а это недостойно сильной натуры... В общем, как видишь, тоже не герой...
– Почему "тоже"? – напрягся Кинтель.
Дед покосился через плечо:
– Ну, я имел в виду капитан-лейтенанта Стройникова. О котором ты часто думаешь.
– С чего ты взял, что часто? Больно мне надо о нем думать!
Виктор Анатольевич сделал вид, что поверил:
– Ну и ладно... Попробуй-ка лампочки включить, горят ли...
Лампочки среди пахучих веток сказочно загорелись. Но досада у Кинтеля не прошла, он проворчал:
– А чего ты на них бочку-то катишь? И на Стройникова, и на Вишневского. Будто они самые последние гады...
– Я?! Что ты, мой милый... Я им в судьи не гожусь, потому как сам далеко не герой. Если бы ты знал, сколько у меня на совести совсем даже не храбрых поступков...
Кинтель поморщился. Такие фразы прорывались у Толича и раньше – в грустные минуты. Нечасто, правда... Пришлось теперь заступаться за деда перед дедом же:
– Это хоть у кого есть на совести. А есть и другое! Ты же сам рассказывал, как с парашютом прыгал, когда в санитарной авиации служил.
– Ну прыгал. Один раз... Куда не прыгнешь, если приспичит... Это было совсем не романтично и чертовски страшно. А главное – зря...
– Зря?! Ты не говорил... Больной все равно умер, да?
– Если бы так, это имело бы, по крайней мере, оттенок благородной трагедии. А тут сплошной водевиль. Парень украдкой перебрал казенного спирта и маялся с перепою, а друзья на базе решили, что кончается, дали радиограмму...
Кинтель сказал с хмурым ехидством:
– Бывает, что и с перепою помирают. Или тогда помогать не надо? Потому что тоже не герой?
– Экий ты сегодня... Может, у тебя двойка за полугодие? Или со своим Салазкиным поругался?
– Мы с ним никогда не ругаемся. А дневник я тебе вчера на подпись давал... Ты скажи лучше: если в человеке ничего героического, значит, он вроде как и неполноценный, да?
– Во-он ты о чем... Это вопрос многоплановый. Поставленный, так сказать, самой российской историей.
– Почему?
– Такая наша жизнь. Даже песня была в недавние времена: "Когда прикажет страна быть героем, у нас героем становится любой..." А не хочешь подвиги совершать, мы тебя... Вот и шло деление: или ты герой, или дезертир и враг народа... А те, кого еще не определили, кто он есть, жили смирненько и ждали, как оно повернется. Потому что вроде бы не люди, а так... единицы населения. С ними чего церемониться? Можно и за проволоку, и стрелять тысячами не жалко... Впрочем, и с героями не церемонились...
– Я же не про советские времена, а про те, что раньше!
– А корни-то куда уходят? В это самое раньше... Его величество Николай Павлович разве не так поступал?.. "Ах, ты не хочешь, сукин сын, быть героем? Так мы тебя им сделаем! Солдатскую шинель на плечи – и на Кавказ ша-агом марш... А то и в крепость. Для обретения правильности мыслей... А другие величества? Тот же Петр Великий...
– Ну, Петр-то, он все-таки по правде великий был! Флот построил. И вообще он думал не о себе, а о стране!
– А Николай Первый? Думаешь, он за себя переживал? Тоже за Великую Россию! За такую, как он ее себе мыслил. Чтобы всюду порядок, все ходили по струночке, а другие государства нас боялись и чтили... По сути дела, он сам был раб этой системы.
– Ты скажешь! Царь и раб...
– Раб своих убеждений... Кстати, по дурацкой нашей традиции его изображают этаким безмозглым и бессердечным фельдфебелем. А это был умный человек. Бюрократов и проходимцев-чиновников не терпел. Отличался честностью... Например, был такой случай во время Крымской войны. Изобретатели предложили вести разведку с воздушных шаров, а он запретил: неблагородно подглядывать за противником с воздуха...
– Ну и дурак, – буркнул Кинтель. – Англичане тогда вон сколько военных хитростей применяли...
– Дурак, говоришь? Это как посмотреть. Рыцарство и дурость смешивали во многие времена... Кстати, не чужд он был и вполне человеческим чувствам. Ребятишек любил. В Морском кадетском корпусе была резервная рота, мальчишки лет девяти, и его величество весьма жаловал их отеческим вниманием. Иногда звал в гости и прямо во дворце устраивал с ними ребячью возню. Императрица войдет в покои, а ее муженек с пацанами катается по ковру, и все орут от веселья...
– Подумаешь, Гитлер тоже, говорят, любил с детишками поиграть...
– Тьфу на тебя. Ты на все найдешь ответ.
– А если он, Николай, такой хороший был, зачем декабристов повесил?
– Я разве говорю, что он был хороший? Но он был тоже человек. А пятерых декабристов повесили по решению суда. С точки зрения тогдашних законов (да и нынешних, кстати) это было вполне обоснованно. Они с оружием в руках пытались свергнуть существующий строй... И на кой черт Каховскому на площади надо было убивать генерала Милорадовича, героя войны с Наполеоном... Кстати, нашим августовским "героям", что сидят в "Матросской тишине", тоже "вышка" грозит, хотя и царя у нас нет, и по сравнению с декабристами они мокрые суслики... Но это все хотя бы по суду. А сколько миллионов, считая с семнадцатого года, угробили без всяких судов и следствий! Николай – невинная овечка на фоне наших "социалистических завоеваний"...
Кинтель вновь представил желтый обрыв над морем, неторопливый стук пулеметов. И люди ложатся, как бумажные солдатики. И пропадают за кромкой... Никита Таиров падает – не врангелевский поручик, а мальчик в белой блузе с матросским воротником... А девочка Оля бежит к нему сквозь колючие сорняки, беззвучно кричит, а колючки рвут ее платье.
Странно, что Кинтель об этой девочке вовсе не думает как о своей будущей прабабушке. Наверно, потому, что никогда он ее не видел, она умерла задолго до рождения Кинтеля. Он даже представить ее взрослую не может отчетливо. А девочку Олю видит как живую. Как маленькую скрипачку... И тихая знакомая музыка – та, от которой всегда теплела душа, – пришла к Кинтелю.
Было уже полутемно. Елочные лампочки, послушные переключателю, ритмично мерцали, кидали на стены разноцветные отблески. Искрились остатки позолоты на раме портрета, на фарфоровом циферблате, на дверных ручках. Ручки эти – старинные, на широких пластинах, с фигурными шишечками, были за-крашены той же краской, что и дверь. Только середина их, вытертая ладонями, всегда блестела чистой медью. Однажды Кинтель предложил деду отвинтить ручки, отскрести от краски, пусть сияют, как медяшки на корабле! Но дед недовольно сказал, что их за-красила его мама много лет назад и потом отвинчивать не позволяла. Потому что есть вроде бы такая примета: беспокоить и свинчивать ручки с дверей – это к пожару и другим несчастьям. Кинтель хотел было возразить, что прабабушки давно нет, а приметы – это пережиток, но не решился...
В первых числах января дед получил ордер, и дело с обменом опять закрутилось. Переезд ожидался в середине месяца. Вот уедут Рафаловы, и останется в доме лишь одна семья – Зыряновых. Но и она сидит на чемоданах. К февралю дом опустеет совсем. Разве что тень бывшего морского лейтенанта Вишневского будет ночами бродить по холодным комнатам.
...Услышав о декабристе, Корнеич насторожился:
– Постой, постой. В музее, по-моему, ничего об этом не известно... Если такой факт подтвердится, это меняет дело. Можно было бы дом-то и отстоять.
– Да декабрист-то незнаменитый, – виновато сказал Кинтель. – Говорят, не герой вовсе.
– Герой – не герой! Все равно история...
Паша Краузе – человек спокойный, но решительный – предложил:
– А давайте, как освободится дом, въедем явочным порядком. И будет у "Тремолино" двухэтажная резиденция.
Корнеич думал о чем-то, терзал пальцами подбородок. Отозвался рассеянно:
– Ага, въедем, а потом придут натренированные мальчики в сером, с дубинками. Они такие операции любят: и риска никакого, и плюс в отчете... Кстати! – Он глянул на Кинтеля и Салазкина. – К ним в управление подался наш общий знакомый! Следователь Глебов! Помните?
– И очки не помешали? – весело удивился Салазкин.
– В контору же, в штаб. Видимо, для укрепления юридической платформы. Я с ними разбирался недавно по поручению редакции. Они шумно навестили один кооператив, якобы для проверки, не имея на то осно-ваний...
– А Диана ушла в спецшколу для слаборазвитых, – сообщил Кинтель. – Сказала на прощанье: "Что здесь, что там – одинаковые дебилы, но там хоть зарплата повыше..."
– Скатертью дорога, – отозвался Корнеич. – А что ты еще знаешь о Вишневском?
Кинтель пересказал, что слышал от деда.
– В одной комнате можно было бы морской музей сделать... – задумчиво проговорил Паша Краузе. – А внизу мастерские...
– Тише, – с шутливым испугом, но наполовину серьезно попросил Корнеич. – У меня мелькнул проблеск идеи. И надежды. Но пока ни слова об этом, чтобы не сглазить...
Ни слова так ни слова. И заговорили о прежнем. Кинтель сказал неловко:
– Если бы у Стройникова тоже был хоть проблеск надежды, он бы ни за что не сдался.
– В том-то и дело! – резко откликнулся Корнеич. – А у него не было никакого просвета... Кстати, ни в одной цивилизованной стране сдачу в плен при безвыходных обстоятельствах не считают преступлением. Потому что жизнь человеческая – не мелочь для размена... А у нас даже в мирное время... В восемьдесят первом году в шведских шхерах села на мель советская подлодка "У-137". Видать, вела разведку и напоролась. А недавно в "Известиях" один офицер признался, что у них был приказ: закупорить люк и взорвать лодку вместе с людьми, если шведы попытаются взять ее. А там пятьдесят шесть человек... Хорошо, что у шведов хватило ума не соваться.
– Решили, что себе дороже, – с зевком сказал Паша Краузе. – На лодке-то, говорят, были атомные торпеды.
Любивший точность Андрюшка напомнил:
– Но ведь потом в "Известиях" была и другая статья, там написано, что все это неправильно...
– А потом была и третья. И четвертая, – вздохнул Корнеич. – Одни настаивают, другие опровергают... А не бывает дыма без огня...
Вмешался Дим, произнес скучным голосом:
– Вот как начнут Черноморский флот делить, хватит тут и дыма, и огня... Одни под жёлто-блакитные флаги захотят, другие под андреевские...
– Каховский звонил из Севастополя, – отозвался Корнеич. – Говорит, город митингует. Нельзя, мол, флот Украине отдавать, и город тоже...
– Ну правда нельзя! – подскочил Не Бойся Грома. – Это же все русское! Нахимовское... Жалко же...
– Жалко, что и говорить, – согласился Корнеич. – Особенно город. Даже в голове не укладывается. Севастополь – и вдруг будет заграница... А флот... Если всерьез разбираться, он, такой громадный, ни Украине, ни России не нужен. С кем воевать-то сейчас? Конечно, военные найдут кучу причин, чтобы такую армаду содержать, да на это же столько миллиардов надо... Все равно кончится распродажей или резкой на металл... Лишь бы в самом деле крови перед этим не было. Найдутся ведь умники и здесь, тоже закричат: ничего не отдадим, костьми ляжем, не сдадимся!
Все помолчали, словно какую-то виновность почуяли.
Паша Краузе так же спокойно, как обо всем прочем, только потише, спросил:
– Корнеич, а в Афгане сдавались?
– Всякое бывало... Стволы направят в пузо – куда денешься...
– Но ты же... – сказал Паша совсем негромко, – не сдался тогда...
Корнеич не нахмурился, не показал, что говорить об этом не стоит. Но легкая неохота скользнула в голосе:
– Да я уж объяснял ведь: надо было дать ребятам отойти подальше. К тому же была какая-то надежда... – Корнеич посмотрел на Кинтеля. – Как у брига "Меркурий". Хоть маленькая, но была. Вот она и оправдалась. В обоих случаях... Надежда – вообще великое дело. Иногда небывалые чудеса сбываются...
Кинтелю показалось, что Корнеич говорит не о себе. И не о "Меркурии". А о нем, о Кинтеле. Словно прочитал его тайную и давнюю надежду на чудо. Но откуда Корнеич мог знать? Тайну эту ведал лишь Салазкин, а он человек железный.
Кстати, именно по совету Салазкина Кинтель написал в конце декабря открытку. И опустил ее в ящик номер 12 в крайнем подъезде дома на улице П. Морозова. На открытке было: "Мама, поздравляю тебя с Новым годом". Подпись поставить Кинтель не посмел, а слова написал печатными буквами. И после этого за все каникулы не решался пойти в сквер с поваленным памятником, поглядеть на знакомое окно.
...Кстати, похищать и прятать памятник не пришлось. В те же сентябрьские дни, когда Кинтель и Салазкин вновь пришли на разведку, статуи в сорняках не оказалось. Наверно, увезли на переплавку.