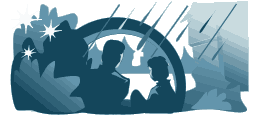1. Санитарный переулок
Утро было прекрасное, сверкающее. Только росы — чересчур. Я, когда пробирался сквозь кусты больничного сада, кряхтел и вздрагивал. Тренировочный костюм (он был у меня здесь вместо пижамы) промок, словно от дождика.
Я раздвинул в заборе две доски, подобрал живот и протиснулся на волю, в тихий Санитарный переулок. И сразу увидел милейшего Артура Яковлевича — главного, ведущего и руководящего специалиста нашей больницы. Какая холера принесла его в такую рань? Докторские очки заискрились иронично и доброжелательно.
— О-о!.. Доброе утро. Как вы себя чувствуете?
Я сказал искренне:
— В данный момент — как полсотни лет назад, когда впервые забрался в чужой огород, был замечен, зацепился лямкой за штакетник и повис...
Артур Яковлевич хохотнул, колыхнул таким же, как у меня, животиком.
— Ну, зачем же так. В вашем поступке нет криминала, утренний променаж даже полезен.
Значит, он не догадался.
— Да, — подыграл я. — Маленький заряд бодрости для чахнущего пенсионера.
— Какой же вы, батенька, пенсионер! Люди вашей профессии на пенсию, по-моему, вообще не уходят. Да и с возрастом вы пока не совсем дотянули.
— Дело не в возрасте, а в состоянии духа и тела...
— Дух — это сугубо зависит от вас. А что касается тела, то мы стараемся... И кажется, не без успеха.
Меня вдруг сильно царапнуло раздражение.
— Бросьте, доктор. Вы же знаете, что это неизлечимо.
— Голубчик мой... Все мы неизлечимы, если исходить из соображения, что всякий человек смертен.
— Вы прекрасно понимаете, что я не о том...
— А если иметь в виду “то”... Я уже объяснял вам, что острый процесс можно задержать и перевести в вялотекущее хроническое заболевание. Люди с этим живут и живут. И у вас есть все шансы дождаться правнуков...
— Ну-ну... Моей старшей внучке два с половиной года.
— Тем лучше для вас! — жизнерадостно воскликнул он.
— Пожалуй... — хмыкнул я. И согнул локти, приняв положение для бега трусцой.
— Только без перегрузок, Игорь Петрович, — с легкой тревогой предупредил доктор. — И недолго. Сегодня на обходе будет профессор Красухин, надеюсь, вы не опоздаете.
— Я тоже надеюсь, — ответил я светски. И надеялся в этот миг на обратное: что вижу ни в чем не виноватого Артура Яковлевича последний раз в жизни...
2. Развалины
Моя однокомнатная обитель оказалась в полном порядке. Даже грязная посуда была теперь вымыта. Кто-то, значит, приходил, прибирался. Возможно, Тереза...
Я переоделся (даже галстук надел), сунул во внутренний карман паспорт и все, какие были, деньги. Взял плащ и выволок из-за дивана свой “командировочный сидор” — объемистый портфель, в котором лежало все необходимое для многодневных поездок. В срочные командировки я давно уже не ездил, но по привычке держал “сидор” наготове.
Платком я стер с портфеля пыль, погладил, как кошку, свою старенькую пишущую машинку, на кухне закрыл потуже краны, вышел и, не оглянувшись, захлопнул за собой дверь.
Тут же из двери напротив юрко высунула голову соседка — остроносая, любопытная и молодящаяся старушка.
— Игорь Петрович! Как я рада! Вас выписали?
— Как видите, уважаемая Римма Станиславовна. Счастлив вас приветствовать...
— А у меня для вас целая груда почты. Всякие конверты из редакций! Заходите! А я чайку...
— К сожалению, весьма спешу. Бог с ней, с почтой... — Пустовато было у меня на душе. Но не печально. Бездумно...
— Только из больницы и сразу уезжаете куда-то. Ай-яй...
— Что поделаешь, работа. Специально отпросился у врачей пораньше, — скользил я со своим враньем, как по гладкому стеклу. — Рад был вас видеть...
— Что передать Терезе Владимировне, если зайдет?
— Что я нашел вас еще более похорошевшей.
Старушка расцвела, а я, прихрамывая, спустился на первый этаж и вышел во двор. У подъезда цвели яблони и каталась на трехколесных велосипедах малышня, по-летнему пестрая и голоногая. Уже припекало, день обещал быть очень теплым.
Я пересек двор и вошел в полуразрушенный, ожидающий сноса квартал. Здесь было тихо, только шуршали крыльями воробьи. Кучи прошлогоднего мусора уютно покрывала свежая, яркая трава, в ней горели желтые огоньки мать-и-мачехи.
За остатками забора из кирпичных столбов и железных копей стоял двухэтажный особняк с выломанными рамами и полуразобранной крышей. Он был сложен не из кирпича, а из чужого в здешних местах пористого желтоватого туфа. Я вошел в разоренные комнаты. Солнце било в оконные проемы. Стараясь не смотреть на зарисованные мальчишками обои, на битые бутылки по углам, я поднялся на второй этаж. Глянул в окно (заранее знал, в какое, не первый раз).
Кирпичные башенки с флюгерами на крыше соседнего дома, причудливая верхушка тополя, далекая белая колокольня, голубятня над забором, несколько чердачных выступов и край моста над рельсами пригородной линии привычно сложились для меня в рисунок нездешнего города. Безоблачная, чуть дымчатая синева за крышами и башнями напоминала туманное море, когда оно в отдалении встает вертикально, как стена... Я закрыл глаза.
Может показаться, что я занимался игрой, не свойственной солидному человеку. Но, во-первых, множество взрослых людей живет, веря в приметы и соблюдая спасительные ритуалы, только никому не признается в этом. А во-вторых, без такой “игры” я за последние годы не написал бы ни единой стоящей строчки... И кроме того, именно взрослый опыт постепенно убедил меня, что граница между игрой и настоящими делами, между сном и хитрой реальностью кристаллических граней часто не прочнее мыльной пленки. Иначе какой был смысл думать о Тетради?
Итак, я закрыл глаза и среди запахов заброшенного жилья и плесени, сухого мусора и свежей травы на пустыре различил и вдохнул запах нагретых солнцем южных камней — тех, из которых был сложен дом... И — оказался в храме.
3. На берегу
На самом деле этот разрушенный храм стоял на краю раскопок древнего черноморского города, и я был в нем всего один раз, давно и случайно. Однако теплого запаха камней было сейчас достаточно, чтобы вспомнить пористые глыбы песочного цвета, плавные закругления арок, выпуклые византийские кресты на фронтонах, пробитый лучами сумрак, тусклую смальту осыпающихся мозаик и желтоватый мрамор колоннады. Не открывая глаз и оставаясь на месте, я в то же время быстро шагал теперь к лестнице. И смотрел по сторонам.
В храме был обрушен купол, в сводчатых окнах не осталось переплетов и стекол. В проломе крыши я увидел очень синий зенит с волокнистым белым облаком. Но глянул туда я лишь мельком: смотреть надо было под ноги. Деревянная (видимо, временная, хотя и очень старая) лестница вела на галерею, которая тянулась вдоль стены на уровне второго этажа. Я поднялся и пошел по галерее. Слева были деревянные перила с балясинами (как на антресолях в старом купеческом доме), справа — стена с мозаичным узором из листьев и провалы окон, за которыми холмы с серой полынью и море. Скоро я вышел на площадку с двумя колоннами. Солнце отражалось от дальней стены, и здесь был рассеянный прохладный полусвет.
Сколько мне лет? “Полсотни с большим хвостом”? Или двадцать? (Ничего не болит, и в мускулах под загорелой кожей веселая упругость.) Или я уже совсем мальчик, как в недавних больничных снах? Не знаю, сейчас я не вижу себя. Я вижу картину, висящую низко над полом.
Не решаюсь назвать ее иконой. Скорее всего, это просто портрет. Видимо, копия (а возможно, и подлинник) итальянского или голландского мастера. Какого — не знаю, никогда не видел репродукций. Это Мать со своим Мальчиком. Она, в зеленом платье и полупрозрачной накидке на волосах и плечах, сидит облокотившись на низкий, высвеченный солнцем подоконник (а за окном — размытые в знойной дымке горы и убогие домики Назарета). Лицо у нее молодое, но не такое молодое, не полудетское, как часто бывает у изображений Мадонны. Спокойными светло-карими глазами она смотрит перед собой, но каждой клеточкой тела, каждым нервом льнет к Сыну, словно любовью своей и тайной тревогой хочет окутать его, как силовым защитным полем, заслонить от грядущих бед.
А Мальчик ее — уже не дитя на руках у мамы, как мы привыкли видеть на многих картинах “Мадонна с Младенцем”. Этакий непоседа лет восьми, тощенький, загорелый, с искорками в синих глазах. Мятая холщовая тряпица обернута вокруг бедер, на коленке подсохшая ссадина, в руке корявая палка (небось от сухой смоковницы). Верхом на этой палке он, наверное, только что скакал с приятелями по плоским крышам и каменным ступеням. И вдруг спохватился, примчался к маме: “Ну что ты, я не так уж и баловался. Вот он я, ничего со мной не случилось”. Встал рядом, щекой прижался к ее плечу. На лице — еще не остывший задор игры, но тут же и ласковость, и капелька виноватости... А позади этих чисто ребячьих настроений и чувств заметна, прячется легкой тенью, таится в зрачках недетская задумчивость. Ибо Мальчик ведает будущее. И свое, и других. И знает, что маме оно тоже предсказано.
“Ничего... Не бойся...”
Но сейчас они прервали свой молчаливый разговор и смотрят на того, кто подошел к ним. Смотрят с пониманием и без упрека, хотя никто из приходящих не бывает без вины.
Я, встав на колено, лбом касаюсь гладкой некрашеной рамы — от нее пахнет еловой смолой.
“...Простите меня, и пусть простят меня те, кого я оставляю: у меня ведь тоже нет обиды на них, просто пришел час пути... И на этом пути, который мне еще остался, дайте капельку радости и спокойствие души. И... если можно... пусть я найду то, что ищу...”
Что-то греет мне левую щеку. Это рядом с картиной на низком кованом кронштейне висит лампадка из гладкого синего стекла. Похожая на чернильницу-непроливашку, с какой я когда-то бегал в школу. В ней на поверхности масла качается круглый огонек (сквозь стекло он кажется голубым). Я окружаю хрупкую посудинку ладонями, не касаясь стекла. Тепло от огонька нарастает, пушисто щекочет ладони; значит, огонек набрал силу... Я снова трогаю лбом пахучее дерево еловой рамы. И будто слышу тихое: “Ладно уж, иди”. Так говорила мама, когда я отпрашивался на речку или в ближний лес.
Я поднимаюсь — легкий, счастливый, сбросивший весь ненужный груз. Вся моя ноша на плечах — выцветшая майка, замшевые помочи да невесомость десяти неполных лет жизни. Прямо с площадки, от возникшей рядом с картиной открытой двери, уходит вниз каменная лестница. Я кидаюсь в радостное пространство солнца, знойных трав и морского горизонта — прямо грудью в упругий приморский воздух. По ступеням, по крутой тропинке с холма. Шипастые шарики высоких сорняков чиркают по ногам, стертые подошвы сандалий скользят по перламутровым осколкам ракушек мидий, устилающим тропинку. Еще немного, и там — вырубленная в скалах лесенка, а под ней узкий галечный пляж, заваленный бурыми мочалками водорослей, по которым прыгают стеклянные морские блохи... Ногами — дрыг, дрыг, и сандалии летят в стороны. Дернуть плечами, чтобы слетели лямки, перепрыгнуть через упавшие с ног тирольские штанишки, майку — долой через голову! И сразу, чтобы не калечить ступни на скользких подводных камнях, — бултых пузом! А потом несколькими гребками — в сине-зеленую, кусающую мурашками глубь, где качаются размытые пятна медуз. Это будет сейчас, сейчас!
...Но нет, не все так просто в жизни. Я замедляю бег.
4. Развилка
Я замедляю бег.
И вот уже, опять взрослый, страдающий от жары и сомнений, с плащом на локте и тяжелым портфелем у ног, стою перед серым камнем. Он похож на громадный плавник. Торчит на развилке тропинок.
Никакой надписи на камне, конечно, нет. Но все равно он здесь неспроста. Не впервые он у меня на пути. И сколько раз я поворачивал направо, к морю! Может быть, и сейчас?
“И что дальше? — безжалостно спрашиваю я себя. — Пять минут ребячьей радости. А потом?”
“А потом... я вернусь и пойду налево...”
“Не получится. Потому что пляж и море — это короткий сон, после которого ты опять очнешься на больничной кровати и увидишь пыльный белый потолок с трещинами...”
“Нет! Я же ушел оттуда...”
“...А дорога налево — это всерьез... Минутное счастье детского сновидения и долгий путь наяву не соединить...”
Я стою опустив голову. Желтая, с седыми волосками гусеница ползет снизу по моим брюкам, прямо по стрелке. Вот ведь глупая, выбрала дорогу... А как вообще выбирают дорогу? Мы сами ее выбираем или судьба?
“Ты сам выбрал... И огонек разгорелся — значит, правильно”.
“Огонек мог и не знать, куда я поверну от камня. Просто подсказал: иди и выбирай...”
“Вот я и выбираю... Может, все-таки пойти окунуться?”
“Ох, не надо...”
“Ага... “Не пей, Ванечка, из копытца, в козленочка превратишься...” А может, в этом и есть главный смысл: превратиться в козленочка и прыгать бездумно и радостно...”
“А как же разгадка Горы? А Книга?.. А Тетрадь?..”
“Ничего этого нет, — насупленно говорю я себе. — По крайней мере, Тетради...”
“Как знать... А главное, наверняка есть Причал. И там ты все равно вернешься к морю...”
“Если дойду”, — вздыхаю я про себя. Сухим стеблем сбрасываю гусеницу. Иду, сутулясь, к бетонному капониру на обрыве. Это остатки береговых укреплений времен последней войны. Полуоткрытая ржавая дверь вросла в кремнистую землю. Я протискиваюсь в полумрак, в запах сырого бетона и железа. Прикрываю ладонью глаза. Сейчас я опущу руку и окажусь на старом месте: в разрушенном особняке.
Так и есть. Рваные обои, битое стекло. Но за окном — как награда и обещание радости — ветка яблони, вся опушенная цветами. А в ладонях еще хранится тепло огонька. И я вдруг вспоминаю (я всегда это знал, но почему-то в последнее время выпало из памяти), что есть простое и верное начало пути.
Надо на трамвае доехать до Центрального рынка, там сесть на другой трамвай — старую, дребезжащую “тройку” — и через десять минут окажешься у кольца. Там тихо, между шпалами растут осот и подорожники. От этого кольца отходят несколько пригородных веток — на озеро, на электростанцию, на садовые участки. А есть еще одна — по ней трамваи давно не ездят, рельсы заржавели. По этой ветке надо пойти пешком, и скоро... скоро будет то, о чем знают немногие. А может быть, никто не знает, кроме меня!
5. Поезд “Пилигрим”
По ветке с поржавевшими рельсами я шагал минут пятнадцать. Она тянулась между серых кривых заборов, за которыми, как и в городе, густо белел яблоневый цвет. Потом заборы разошлись. Слева оказался луг, а справа — заросшее болотце. А рельсы сделались блестящими. У края полотна я увидел шест с прибитой фанеркой, на ней чернели буквы:
Ст. Начальная
Не было ни навеса, ни скамейки. Я сел на валявшийся в траве рассохшийся бочонок. Из бочонка неторопливо вышла серая, размером с голубя птичка — с хохолком и на высоких ножках. Посмотрела очень умно: “Ждешь? Ну, жди, жди...” — словно что-то про меня знала.
— Кис-кис, иди сюда, — сказал я, хотя это было глупо. Лучше бы уж “цып-цып”. Но птичка не удивилась и не обиделась. Превратилась в серого котенка. Я тоже почему-то не удивился. Хотел дотянуться и погладить, но котенок шмыгнул в траву. Наверно, испугался гула рельсов и пыхтенья. Из-за кустов показались старинного вида желто-красные вагончики.
Это был не трамвай. Во-первых, нигде над вагонными крышами не торчала дуга (да и проводов над рельсами не было). А во-вторых, вагончики толкал маленький, будто в детском парке, паровоз. Пыльно-зеленый, но с начищенной, как духовой контрабас, трубой. По красному лаку вагонной стенки тянулись витиеватые, словно в старинном журнале “Нива”, буквы:
Туристический кооператив “Пилигримъ”
Раньше такого не было. (А вообще — что было?)
Паровозик выпустил из-под круглой топки пар, от которого пригнулись верхушки молодого бурьяна. Вагоны остановились, и я забрался в ближний по откидным ступенькам. Опустил в стеклянную кассу пятнадцать копеек (так требовала надпись на стекле), оторвал длинный розовый билет и сел у окна. В вагоне было пусто. Блестели новым желтым лаком сиденья — одноместные, сколоченные из реек стульчики. Между ними тянулся широкий проход... Я поднял раму с пыльным стеклом. Поехали. Я высунул голову и тут же убрал: вдоль пути потянулись деревья, ветки разлапистых кленов заскребли по вагону.
Этот славный, игрушечно-самоварный поезд бежал резво, посвистывал, дребезжал, потряхивая себя на стыках. По вагону летала бабочка, похожая на солнечный зайчик. На соседнем сиденье катался туда-сюда забытый кем-то красно-белый рыбацкий поплавок. Поезд ехал без остановок минут двадцать, потом начал останавливаться очень часто. Входили пассажиры: дядьки с садовыми лопатами, бабки с корзинами, юная компания с магнитофоном, который они, впрочем, тут же выключили. Вагон заполнился. Я отвернулся к окну. Там по-прежнему были клены и трава...
— ...Молодой джентльмен мог бы, наверно, уступить место пожилой особе...
Я вздрогнул. Это я молодой джентльмен? Увы, особа смотрела не на меня. Рослая старая тетка (в длинном сером пальто и старинной шляпе с сеткой и бисером) обращалась к мальчику. Тот сидел от меня наискосок, я видел над спинкой его плечи в потертой школьной курточке, давно не стриженные песочного цвета волосы и сильно загорелую щеку. Такие светловолосые, с тонкой белой кожей мальчишки быстро загорают под весенним солнцем... Даже сквозь загар заметно стало, что мальчик покраснел. Торопливо завозился.
— Ой, да садитесь, я просто не заметил...
— Благодарю. — Старуха шумно втиснулась на его место, подобрала подол, придвинула к сиденью свой багаж — сундучок, окованный узорной жестью.
Мальчик в это время сделал шаг в сторону. И зацепился штаниной за острый угол сундучка.
— Ох! — всполошилась старуха. — Ты порвал брюки!
— Да чепуха!..
— Ну как же... Это из-за меня!
— Да наплевать, — сказал мальчик с явной досадой, потому что на них оглядывались. — Они все равно старые.
— И все-таки! Если ты сойдешь на остановке “Старый мост”, мы можем зайти ко мне, я быстро заштопаю...
— Нет, я еду дальше. Да вы не волнуйтесь...
“Старый мост... Старый мост...” — отдалось во мне. Значит, правда? Вот и начал завязываться узелок...
В этот момент поезд опять остановился, заблестело за окнами озеро, вагон сразу опустел на две трети. Мальчик остался. Но он не сел ни на одну из освободившихся скамеек, ушел на заднюю площадку — подальше от заботливой старухи.
— Как досадно, — басовито сказала она. Оглянулась, встретилась со мной глазами (знакомыми такими, темно-коричневыми и совсем не старческими), обиженно отвернулась и притихла.
У меня застукало сердце. Не то чтобы я очень волновался, но пришла пора. Я перебрался на сиденье позади старухи, сказал вкрадчиво:
— Прошу прощенья... Вас зовут Генриетта Львовна?
6. Давняя знакомая
Она обернулась. Неторопливо, но с заметным удивлением.
— Генриетта Глебовна...
— Извините. Я мог и ошибиться, столько лет прошло...
— А собственно, в чем дело, сударь? — величественно вопросила старуха.
Но нет, не могу я называть ее просто старухой. Это была старая, но еще крепкая и, безусловно, интеллигентная дама. Свою интеллигентность она иногда разбавляла нарочитой простоватостью, но это было приятное сочетание. Так же, как на ее лице, где мясистый пористый нос доброй тетушки сочетался с тонким ртом и аристократическим подбородком, какие можно видеть на портретах восемнадцатого века...
— Итак, сударь, чем вас привлекла моя персона?
— Догадкой, сударыня. Мне показалось, что в разговоре с мальчиком вы руководствовались не только желанием зашить ему брюки, но и надеждой, что он поможет вам нести сундук.
— Вы проницательны... — В глазах Генриетты Глебовны зажглись насмешливые точки. — Но в таком случае позвольте быть проницательной и мне: вы сходите у Старого моста и хотите выполнить роль мальчика?
— Вы не ошиблись, — светски улыбнулся я. Но ощутил вдруг глухое волнение. Словно темная вода колыхнулась в глубоком колодце... Неужели все это происходит на самом деле?
— Очень мило с вашей стороны. Однако чем я обязана такой любезности? — Генриетта Глебовна глянула пристально.
Я передохнул.
— Совпадением... Почти полсотни лет назад я ехал в поезде, похожем на этот. И по этому же пути...
— Но тогда вы были, наверно, ребенком!
— Да, стриженный под “полубокс” мальчик в ковбойке и сандаликах... Мальчик в те дни открыл дорогу в Овражки и очень любил бывать там... И вот в вагон вошла дама с сундучком и в тех же выражениях, что и сегодня, напомнила мальчику о правилах хорошего тона. Мальчик стал выбираться с сиденья, зацепился за сундук...
— ...и порвал брюки.
— Я был в заграничных замшевых штанишках и до крови расцарапал ногу. Это вас... то есть даму очень расстроило. Она уговорила мальчика сойти у Старого моста и отправиться к ней домой для “мазанья йодом и бинтования”. Мальчик согласился (исключительно, чтобы не выглядеть трусом) и по дороге помог тащить сундучок.
— Он не тяжелый, пустой... Я возила его в мастерскую, потому что испортилась музыка в замке.
— В тот раз вы сказали так же!
— Гм... Но, полагаю, выглядела я тогда несколько иначе?
— Полагаю, что да, — в тон ответил я. — Но... для десятилетнего мальчишки все взрослые, кому за двадцать, кажутся пожилыми.
— Увы, мне было тогда уже за тридцать.
“Тем более!” — чуть не брякнул я. Но осторожно сказал о другом:
— Тем более, что я не настаиваю. Как принято говорить, “может, мальчика-то и не было...”. Не исключено, что все это — плод моего воображения. Или выкрутасы отраженного мира...
Она не удивилась. Кивнула снисходительно:
— Возможно, что и так... По крайней мере, я не помню такого эпизода...
— А я помню отчетливо. Вернее, представляю... Как мы пили чай с маленькими рогаликами, как потом я еще несколько раз забегал к вам в гости на Пустырную улицу... Вы ведь жили тогда на Пустырной?
— Признаться, и сейчас живу...
Мы вышли на станции, похожей на дачный павильончик. По замшелому каменному мосту перешли бурливую речку Окуневку — она виляла среди зеленых откосов. И зашагали по улице Тележной мимо палисадников, двухэтажных контор и кирпичной аркады торговых рядов прошлого века. Сейчас под арками ютились фанерные киоски и овощные прилавки.
Было, как и дома, тепло и солнечно. Яблони не попадались, но зацветала сирень. Я нес на плече плащ, в левой руке — свой “сидор”, а в правой — сундучок. Держал его за медную витую ручку, приклепанную к горбатой крышке. Сундучок и правда был не тяжелый.
Генриетта Глебовна шагала рядом с сундучком. Глянула на меня и заметила:
— Вы идете уверенно. Видимо, и правда помните дорогу.
— Я многое помню... Например, вашу лампу со стеклянным зеленым шаром. И картину, на которой мальчик тянется к сундучку... похожему на этот.
— С ума сойти... Лампа разбилась тридцать лет назад!
— А картина цела?
— Да... Но... Откуда вы все это знаете? Мне даже страшно, — заявила она. Впрочем, без всякого страха. В голосе ее мягко перекатывались граненые камушки. — Я начинаю подозревать...
— ...уж не злодей ли я, не рэкетир ли какой-нибудь или, может, домушник, пожелавший втереться в доверие?
— Увы...
— Нет, Генриетта Глебовна, у меня другая профессия. Хотя, по мнению некоторых, не менее романтичная и прибыльная.
— Какая же... э... Простите, ваше имя-отчество?
— Игорь Петрович.
— Игорь Петрович и...
— Решилов, — вздохнул я.
Тут она по-настоящему засмущалась:
— Простите, а... возможно, это совпадение, но... последний номер журнала “Огни”, там портрет и...
— Да, Генриетта Глебовна, да, — обреченно сказал я. Потому что куда деваться...
— Как замечательно! — Она даже зарумянилась. — Ваши “Лунные эскадроны” у меня на полке. Я их читала пять раз...
Ох как не хотелось мне об этом.
— Бог с ними, с “Эскадронами”. Давняя вещь...
— А сейчас? Тоже над чем-нибудь работаете?
Фу ты, умная вроде бы женщина, а как обалделая девица на конференции “Встреча с писателем”. Неужели даже здесь от этого не уйдешь?
— Сейчас вот не работаю, как видите. Путешествую...
— Память детства, так сказать, да?.. Еще один источник вдохновения?
— Будем считать, что так, — буркнул я.
Она, кажется, застыдилась своей дурацкой умиленности. Сказала уже по-иному, пряча за суховатостью смущение:
— Но, увы, я все-таки не могу припомнить ваших детских визитов...
— Я ведь и говорю: самому кажется иногда, что я в детстве просто придумал ваш городок... Мне нравилось бывать здесь, потому что столько загадок... И еще потому, что мальчишки тут никогда не приставали, не дразнились. На любой улице брали в игру как своего. Один раз я заигрался допоздна, и вы оставили меня ночевать. И сами позвонили маме, чтобы не волновалась...
— Да? Возможно... Видите ли, я уже в то время сдавала комнаты приезжим и у меня перебывало столько людей. И взрослых, и детей... А память в мои годы, сами понимаете...
— Ну, какие наши годы, — сказал я глупо и галантно.
— Ах, Игорь Петрович, вы не учитываете разницу...
— А сейчас вы не сдаете комнаты? — напрямик спросил я.
— Гм... изредка. Через турбюро. Если скромное домашнее жилье вы предпочитаете гостиничному люксу...
— Предпочитаю, — вздохнул я. — Весьма...