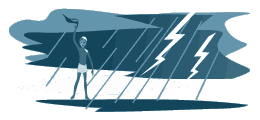Часть первая. ИГРА И НЕ ИГРА
Наследство
Журке все было интересно. Жить интересно. Хотя, казалось бы, жизнь его была самая-самая обыкновенная.
Почти все свои одиннадцать лет он прожил на краю Картинска, в двухэтажном деревянном доме, где они с мамой и отцом занимали одну комнату. (Правда, комната была большая, разгороженная шкафом на две половины, с высоким потолком и большими окнами на солнечную сторону.) Город был маленький. В нем лишь недавно стали строить многоэтажные дома, да и то в центре и на южной окраине. А в Журкины окна была видна улица с растущими вдоль заборов лопухами, деревянные домики и огороды.
Огороды спускались к ручью, который назывался Каменка. За ручьем тянулась травянистая насыпь с рельсами. По рельсам то и дело стучали коричневые товарняки и зеленые пассажирские поезда. А два раза в сутки проскакивал красный московский экспресс. Пассажирские поезда нравились Журке: по вечерам прямо из комнаты видны были бегущие цепочки светлых вагонных окон...
В общем, он жил на тихой улице с громким названием Московская, бегал по ней в школу, смотрел фильмы в ближнем кинотеатре "Мир" и дальнем кинотеатре "Спутник", летом бултыхался в самодельной ребячьей купалке недалеко от железнодорожного моста через Каменку, зимой катался на санках с пологого берега, читал книжки про приключения, про дальние города и страны, смотрел телепередачи "Клуба кинопутешествий" и знал, что живет замечательно.
Он знал, что все ручьи текут в реки, а реки – в моря и океаны. И когда он опускал руки в струи грязноватой от мазута Каменки, то понимал, что соединяет себя с водами Атлантики и южных морей.
Когда он взбегал с Ромкой на крутую насыпь и прижимался щекой к теплым вздрагивающим рельсам, эти рельсы, как провода, подключали его к гудящей жизни всей Земли. Ведь они убегали, нигде не прерываясь, в самые далекие края.
Когда Журка сидел на подоконнике и рассматривал в бледном летнем небе звезды, он знал: тысячи разных людей, как и он, смотрят сейчас на те же звезды. Эти взгляды соединяли Журку со многими пока незнакомыми людьми.
Хороших людей было гораздо больше, чем плохих (хотя плохие тоже попадались, куда от этого денешься?). И хороших дней в жизни было во много раз больше, чем горьких и неудачных. Конечно, случалось всякое: и двойки с грозными записями в дневнике; и отвратительные ангины, когда распухает не только горло, а даже язык; и боль от расшибленных колен и разбитого носа; и томительная беспомощная тревога, если вдруг поссорятся мама и папа; и ночные страхи; и тот безобразный случай в походе... Но все это были именно случаи. Как редкие тучки среди ясного лета.
Вот на такое лето и была похожа его, Журкина, жизнь. Наверно, потому, что он умел находить кусочки радости во всем. Даже когда волочились над крышами лохмотья осенних унылых облаков, Журка сравнивал их с разорванными бурей парусами и вспоминал, что дома не дочитана "Одиссея капитана Блада". Даже когда приходилось ронять слезы после маминых слов, что ей "не нужен такой двоечник, разгильдяй и лодырь, за которого приходится краснеть перед всеми родителями из четвертого "В", он знал, что вечером все равно мама подойдет, сядет на краешек постели, и они помирятся. И сквозь плач радовался этому.
И лишь когда пришло письмо о Ромке, все хорошее вокруг словно вздрогнуло и рассыпалось.
Журка плакал тогда не очень. Потому что плачь не плачь, что теперь сделаешь? Но не было в этих задавленных слезах и намека на какую-то будущую радость.
Потом оказалось, что и такая черная горечь не навсегда. Прошла она, а в оставшейся печали будто появились светлые зайчики. Ведь Ромка, несмотря ни на что, все-таки был. Целых два года он был у Журки, а прошлая жизнь, если ее не забывать, всегда остается с человеком. И друзья, которые были, остаются навсегда.
Ромка часто снился ему. Журка ждал этих снов, чтобы снова по-настоящему увидеться с Ромкой. Потому что наяву он вдруг стал забывать его лицо. Голос помнил, руки с облезшим на левом мизинце ногтем, похожую на черную горошину родинку на заросшей пушистыми светлыми волосами шее... А лицо будто уплывало. Словно Ромка уходил все дальше и дальше. А во сне он был прежний...
Журка быстро и охотно засыпал под шум недалеких поездов. Этот шум не мешал ему. Он все время напоминал, что есть дальние дороги, они протянулись по всей планете, и Журке тоже придется ездить по ним.
Впрочем, Журка ездил. Один раз с мамой в Москву, потом с мамой и папой в Феодосию, в дом отдыха. Случались и другие путешествия: в лагерь "Веселая смена", в областной город к дедушке – маминому папе. Но это были эпизоды. Они лишь на время прерывали привычную жизнь на родной Московской улице. А Журка знал, чувствовал, что когда-нибудь эта жизнь изменится совсем и дороги унесут его из тихого Картинска надолго. Все изменится...
Изменилось раньше, чем он думал. Неожиданно.
Умер дедушка.
Это случилось, когда Журка был в лагере. Родители решили не волновать Журку, ничего ему не сказали. Съездили на похороны, оформили, какие полагалось, документы, устроили поминки. Короче говоря, сделали все печальные дела, которые выпадают на долю родственников, когда человек умирает.
К тому времени, как Журка вернулся, мама уже не плакала, хотя и была печальнее, чем всегда. Комната оказалась полупустой, а папа увязывал и упаковывал вещи. Решено было переехать в областной центр. После деда осталась небольшая, но приличная квартира, на которую, по словам отца, кто-то "хотел наложить лапу, но это дело у них не выгорело". А еще в разговорах звучало слово "завещание", и это удивляло Журку. Он думал, что завещания писались только в прежние времена про всякие там клады и дворянские состояния. Это было слово из романа "Граф Монте-Кристо". И вдруг – не в романе, а на самом деле. Впрочем, о завещании говорили мимоходом. Да и какое там наследство мог оставить одинокий, очень небогато живший дед?
Журка обиделся на родителей за то, что не сказали вовремя о дедушкиной смерти. Разве он такой ребенок, чтобы скрывать от него беды и горести? Но, если говорить по правде, печалился Журка не очень сильно. Дедушку он знал мало, видел редко и, кажется, никогда по нему не скучал.
Хотя, конечно, дедушка был очень хороший. И он совсем не походил на обычного дедушку. Просто пожилой мужчина, очень высокий, с залысинами над худым лицом, с мелкой седоватой щетинкой на щеках, которые были прорезаны длинными морщинами. Он прихрамывал, но ходил без палки и держался прямо. Носил он большие круглые очки, хотя и без них видел неплохо. Журке почему-то казалось, что очки эти насмешливо поблескивают, когда дед смотрит на папу и маму. А если дед имел дело с Журкой, очки он снимал: и когда разговаривали, и, уж конечно, когда вскидывал Журку себе на плечи.
Он был крепкий, и руки у него были сильные (правда, и ласковые тоже). Еще в прошлом году, когда мама с Журкой встретили его на вокзале, он легко подкинул десятилетнего внука, посадил на себя и, почти не хромая, понес по улице. Журка немного стеснялся встречных ребят – не маленький уже, – но не просился на землю, только весело ойкал: от смущения и от того, что щетинистые дедовы щеки покалывают ему голые ноги.
Дед рассказывал Журке про разные интересные вещи: про раскопки старинных курганов, про то, как устроены латы древних рыцарей, и чем в испанском бое с быками матадоры отличаются от пикадоров и бандерильеров. Он научил Журку, как определять, молодой месяц в небе или старый, и как разглядеть в Большой Медведице незаметную восьмую звезду. А еще – запоминать названия парусов на больших кораблях и привязывать перья к стрелам для лука...
Иногда дед вспоминал, как в юности служил цирковым униформистом и плавал матросом по Каспию или как в детстве сделал с друзьями громадный змей, привязал к бечеве тележку, и змей тащил его, будто взнузданный конь, через луг. Пока бечева не оборвалась...
Один раз Журка попросил:
– Расскажи, как ты воевал.
Дед неохотно сказал:
– Да чего там воевал... Месяц был на позициях, а потом ногу искалечило, и отправили в тыл. И стал чиновником.
Но Журка знал, что чиновники водились только при царе, а месяц на позициях дед провел не зря: среди медалей "За трудовое отличие" и "Ветерану труда" были у него еще "За отвагу" и "За победу над Германией"...
В общем, славный был дедушка Юрий Григорьевич Савельев. Только встречался с ним Журка лишь на короткое время и редко – не чаще одного раза в году. Дважды Журка с мамой ездил к нему в "большой город", а иногда дед приезжал сам. Но приезжал, видимо, без большой охоты. Журка догадывался, что отец и дедушка недолюбливают друг друга. Кажется, деду не нравилось, что мама вышла замуж за папу. Но он зря был недоволен: если бы мама и папа не встретились и не поженились, тогда, чего доброго, не появился бы на свет и Журка.
Прошлогодний приезд деда был последним. Этим летом Журка после лагеря собирался поехать к нему с мамой. А получилось вот как...
Было грустно, и в то же время от ожидания больших перемен в Журке звенели радостные струнки.
Перед отъездом Журка неторопливо попрощался с Картинском. Навестил приятелей (их немного осталось в городе в летнюю пору), обошел все улицы, где когда-то гуляли с Ромкой, заскочил в пустую школу, побродил по берегу Каменки, поплескался в купалке, а потом поднялся на насыпь и положил на рельсы пятак. Прогремел длинный состав с разноцветными контейнерами, и Журка поднял раскатанный латунный кружок. Звонкий и горячий. Положил его в кармашек на тонкой рубашке...
А поздно вечером все Журавины были уже на новом месте.
Утром отец отправился узнавать насчет контейнера с багажом, а Журка и мама поехали на кладбище.
Кладбище оказалось большим и каким-то слишком открытым, с чахлыми деревцами, замершими под ярким равнодушным солнцем. Совсем не похожим на то, что в Картинске.
Дедушкина могила была недалеко от бетонной стены, по которой прыгали воробьи. Журка увидел длинный бугор, заваленный бурыми увядшими цветами и венками с полинялыми лентами. Мама стала откидывать их, и тогда открылась рыжая глинистая земля, через которую пробивались травинки – как весной, хотя появился этот холм в середине лета.
Журка стоял, забыв положить на могилу астры, которые дала ему мама.
Над бугром поднимался решетчатый обелиск, похожий на модель буровой вышки. Он был покрыт какой-то нелепо веселой голубой краской. Сверху алела острая звездочка, а посредине била в глаза очень черная табличка с белыми буквами дедушкиного имени и с числами: когда родился и когда умер. Журка машинально сосчитал, что прожил дедушка шестьдесят один год, четыре месяца и четыре дня...
Мама встала рядом с Журкой и сказала тихонько:
– Мы с папой отдали дедушкину фотографию переснять на эмаль. Будет такой круглый медальон. Когда сделают, привинтим сюда, на памятник... Журка помолчал и спросил:
– Он на этой фотографии в очках?
– Да... А что, сынок?
– Так...
Журка отчетливо вспомнил, как дед снимал очки, когда наклонялся над ним. И понял – неожиданно, только сейчас понял, – что дедушкины глаза очень похожи были на Ромкины. Казалось бы, чего похожего? У Ромки – распахнутые, золотисто-карие, с чистыми голубоватыми белками, у деда – водянистые, с красными прожилками, с набрякшими веками и морщинками вокруг. Но смотрели они одинаково: с добротой и постоянным ожиданием чего-то хорошего...
И когда Журка вспомнил это, резко перехватило горло. Он переглотнул, тихо положил цветы и щекой прижался к маминому рукаву.
По глинистому холмику пролетела тень. Это подошли первые облака близкого ненастья.
Когда возвращались домой, облака загустели и закрыли небо. Солнце било последним лучом в золотистую щель с лохматыми краями. Этот луч высветил кирпичный трехэтажный дом, в котором была дедушкина квартира. Журке вспомнилась открытка с картиной какого-то очень давнего художника: там среди темных деревьев, под круглыми сизыми облаками светилась красная мельница с громадным колесом. И сейчас было очень похоже (если забыть про колесо).
Дом построили давно. Еще, наверно, до революции. Он был по-старинному красив со своими карнизами, треугольными выступами под крышей и полукруглыми окнами на узком фасаде. Журка замечал эту красоту и раньше, а сейчас при свете одинокого луча она выступила особенно ясно.
Красный дом, как замок, поднимался над крышами других домов – двухэтажных и одноэтажных. В большом шумном городе здесь, недалеко от парка, сохранились тихие старые кварталы, и было как в Картинске. Оказалось, что есть даже речка, похожая на Каменку.
Но с речкой, где горбатился узорчатый железный мостик, с окрестными улицами и старым парком Журка познакомился позднее. А в первый день хватило хлопот дома – надо было устраиваться.
Квартира находилась на третьем этаже. В ней было две комнаты: одна большая и одна крошечная – как раз для Журки. А еще маленькая кухня и даже отдельная ванная. Не то что в Картинске, где одна ванная была на четыре семьи... Последний раз Журка был у дедушки три года назад и уже тогда заметил, что в комнатах очень мало вещей. Стол, два стула, узкий диван – вот и все. Мама сказала, что дед не терпел ничего лишнего. Он жил один. Бабушка – мамина мама – умерла очень давно. Дед женился было еще раз, но неудачно. Когда вторая жена ушла, а дочь окончила школу и уехала учиться, Юрий Григорьевич распродал мебель, купил кубометр досок и сколотил из них стеллажи от пола до потолка. Полки он заполнял книгами, которые покупал, где только мог.
Зарплата у деда была средненькая. Он долгие годы работал проектировщиком в каком-то управлении (что это за должность и что за управление, Журка понятия не имел). Год назад пришло время пенсии, тоже небольшой. Но книг дед собрал множество.
В Журкиной комнатке между стенкой и высоким окном стоял узкий стеллаж. Полок семь или восемь. Мама сказала:
– Эти книги дедушка оставил тебе.
– Как это мне? – удивился Журка. – Почему же не всем?.. А те, другие?
– Те как раз нам всем. А эти именно тебе. Специально... Дедушка их очень любил.
Журка растерянно оглядел полки...
В соседней комнате стояли Пушкин и Джек Лондон, Купер и Катаев, "Легенда об Уленшпигеле" и "Алиса в стране чудес". А здесь? Он видел облезшие кожаные корешки без надписей, края разлохмаченных обложек. Некоторые книжки были совсем без корочек.
Мама вышла, а Журка потянул с полки книгу. Наугад. Откинул тонкий самодельный переплет... Тихо вздохнул и сел на рыхлый надувной матрац, на котором спал прошлой ночью.
На грубой серой бумаге было отпечатано редкими старинными буквами:
Ж У Р Н А Л Ъ
п е р в а г о п у т е ш е с т в i я
Р о с с i я н ъ
в о к р у г ъ З е м н а г о ш а р а,
С о ч и н е н н ы й
п о д В ы с о ч а й ш и м ъ
Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А
п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ
Р о с с i й с к о – А м е р и к а н с к о й к о м п а н i и
г л а в н ы м к о м и с с i о н е р о м ъ
М о с к о в с к и м ъ К у п ц о м ъ Q е д о р о м ъ Ш е м е л и н ы м ъ
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
С а н к т – П е т е р б у р г ъ
в ъ М е д и ц и н с к о й т и п о г р а ф i и
1 8 1 6
...Сначала Журка медленно листал, потом встряхнулся, обвел глазами полки. Вскочил, выдернул сразу несколько книг. Оказалось, что это два тома "Путешествий" капитана Головнина, изданные в 1819 году, и сразу три "Робинзона". Один был совсем старинный – 1789 года – и назывался почему-то "Новый Робинзон". Второй носил название "Робинзон-младший". На титульном листе стоял 1853 год, и Журка вспомнил, что, кажется, в этом году произошло Синопское сражение. Третий Робинзон оказался самым молодым – тридцатых годов нашего века. Зато он был самый толстый, и Журка с восторженной дрожью увидел, что там не только всем известные приключения на необитаемом острове. Там еще и вторая часть – дальнейшие путешествия Робинзона. Журка даже и не знал, что есть на свете такая книга...
За открытым окном захлопал листьями, резко зашумел тополь. Влетели в комнату холодные брызги. Упали на желтые страницы "Прелюбопытнейших Пов? ствованiй о Кораблекрушенiяхъ, Зимованiяхъ и Пожарахъ, случившихся на мор? ..." Журка машинально отодвинулся и даже не понял, что начался дождь. Это брызгали волны, хлопали паруса и шумели ветры... Вошла мама.
– Давай-ка закроем окно. Кажется, будет гроза.
Журка никогда не боялся грозы. Даже если грохало и сверкало над самой головой. Он и сейчас ответил:
– Ну и что? Я не боюсь.
– Грозе все равно, боишься ты или нет. Сквозняк втянет молнию, и от такой нелепой случайности может быть большая беда.
Мама плотно прикрыла створки, посмотрела на обложенного книгами Журку, улыбнулась и спросила:
– Нравится? Интересно?
Журка сперва рассеянно кивнул, потом поднял глаза.
– Ма... Тут не только интересно. Тут дело даже не в этом...
Она ласково наклонилась над ним:
– А в чем, Журавушка?
Но он не знал, как сказать. Как объяснить радостное замирание души, когда думаешь, что, может быть, эту книгу читал в палатке под Измаилом Суворов или в селе Михайловском Пушкин. Вот эти самые страницы. Эти самые буквы. И книги рассказывали им то же самое, что ему, Журке. Они были как люди, которые за одну руку взяли Журку, а за другую тех, кто жил сто и двести лет назад. Тех, кто ходил в атаку под Бородином, писал гусиными перьями знаменитые поэмы, дрался стальными блестящими шпагами на дуэлях и мотался на скрипучих фрегатах среди штормовых волн Южного океана. У неоткрытых еще островов. Эта жизнь приблизилась к Журке, стала настоящей. И у Журки холодела спина.
– Мама, я не знаю... – Он помолчал и чуть не сказал про книги: "Они живые". Но отчего-то застеснялся.
Мама его поняла. Или по крайней мере поняла, что лучше его пока не расспрашивать. И пошла по своим делам. Дел-то было ой-ей-ей сколько...
А Журка опять потянулся к полкам и взял самую прочную и новую на вид книгу с золотыми узорами на корешке. Это оказались "Три мушкетера". Не такое старинное издание, как другие, хотя тоже с "ятями" и с твердыми знаками в конце слов. Отпечатанное на гладкой бумаге и со множеством рисунков. Журка обрадовался "Мушкетерам" – это были старые друзья – начал перелистывать, разглядывая картинки...
И увидел между страницами узкий белый конверт.
Видимо, дедушка решил, что, если все другие книги покажутся Журке неинтересными, то "Мушкетеров" он все равно пролистает до конца.
Тем же прямым почерком, каким раньше дед писал короткие поздравления на открытках, на конверте было выведено:
Ю р и к у.
Журка сперва сам не зная чего испугался... Или нет, не испугался, а задрожал от непонятной тревоги. Оглянулся на прикрытую дверь, подошел к окну. Суетливо дергая пальцами, оторвал у конверта край. Развернул большой тонкий лист...
Дед писал четкими, почти печатными буквами:
"Журавлик!
Книги на этих полках – тебе.
Это старые мудрые книги, в них есть душа. Я их очень любил. Ты сбереги их, родной мой, и придет время, когда они станут твоими друзьями. Я это знаю, потому что помню, как ты слушал истории о плаваниях Беринга и Крузенштерна и как однажды пытался сочинить стихи про Галактику (помнишь?). Ты их еще сочинишь.
Малыш мой крылатый, ты не знаешь, как я тебя люблю. Жаль, что из-за разных нелепостей мы виделись так редко. В эти дни я все время вспоминаю тебя. Чаще всего, как мы идем по берегу Каменки, и я рассказываю тебе про свое детство и большого змея.
Этот летучий змей почему-то снится мне каждую ночь. Будто я опять маленький, и он тащит меня в легкой тележке сквозь луговую траву, и я вот-вот взлечу за ним.
Жаль, что так быстро оборвалась тонкая бечева...
В детстве я утешал себя, что змей не упал за лесом, а улетел в далекие края и когда-нибудь вернется. И его бумага будет пахнуть солеными брызгами моря и соком тропических растений. Наверно, потому я к старости и стал собирать эти книги: мне казалось, что они пахнут так же.
Впрочем, ерунда, старости не бывает, если человек ее не хочет. Просто приходит время, когда лопается нить, которая связала тебя с крылатым змеем. Но змей вернулся, я оставляю его тебе. Может быть, он поможет тебе взлететь.
Журка, вспоминай меня, ладно? Меня и другие будут вспоминать, но многие, даже твоя мама, скажут, наверно: жизнь у него не удалась. Это неправда! И ты про это не думай. Ты вспоминай, как мы расклеивали в твоем альбоме марки, говорили о кораблях и созвездиях, а вечерами смотрели на поезда.
И учись летать высоко и смело.
Ты сумеешь. Если тяжело будет – выдержишь, если больно – вытерпишь, если страшно – преодолеешь. Самое трудное знаешь, что? Когда ты считаешь, что надо делать одно, а тебе говорят: делай другое. И говорят хором, говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь думать: а ведь, наверно, они и в самом деле правы. Может случиться, что правы. Но если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, делай по-своему. Не оправдывай себя чужими правильными словами.
Прости меня, я, наверно, длинно и непонятно пишу... Нет, ты поймешь. Ты у меня славный, умница. Жаль, что я тебя, кажется, больше никогда не увижу.
Никогда не писал длинных писем. Никому. А теперь не хочется кончать. Будто рвется нить. Ну, ничего...
Видишь, какое длинное письмо написал тебе твой дед
Юрий Савельев,
который тоже когда-то был журавленком."
Журка дочитал письмо и сразу, не сдерживаясь, заплакал. Его резанули тоска и одиночество, которые рвались из этого письма. И любовь к нему, к Журке, о которой он не знал. И ничего нельзя уже было сделать – ни ответить лаской, ни разбить одиночество...
Напрасно дед боялся, что Журка чего-то не поймет в письме. Он понял все. В дедушкиных словах (будто не написанных, а сказанных негромким хрипловатым голосом) были не только печаль и любовь. Была еще гордость.
И поэтому в Журкиных слезах, несмотря ни на что, тоже была гордость...
Он спрятал шелестящий лист в конверт, а конверт под рубашку. Письмо было только ему. Одному-единственному. Он не хотел сказать о нем даже маме. Не потому, что здесь какая-то тайна, а просто они с дедом всегда говорили один на один, и сейчас был последний разговор.
Журка толкнул оконные створки. Холодные капли застучали по широкому подоконнику. Журка поймал несколько капель, провел мокрыми ладонями по лицу. Вытер его рукавом.
– ...Ты опять открыл окно!
– Все равно нет грозы. Простой дождик.
Журка старался говорить обыкновенным голосом, но разве маму обманешь? Она торопливо подошла.
– Ты плакал?
– Вспомнил дедушку, – без всякого обмана сказал Журка. Потом встряхнулся. – Пойдем, я тебе помогу...
Они с мамой долго разбирали вещи. Развешивали одежду, расставляли по подоконникам посуду. Один раз Журка спросил:
– Мама, а дедушка умер сразу?
– Да, сынок. Он потянулся к верхней полке, чтобы взять книгу, и вдруг упал. У него как раз сидел сосед, который пришел за книгой...
– А разве дедушка знал, что скоро умрет?
– Почему ты решил?
– Ну... – сбился Журка (письмо лежало у него под рубашкой). – Он же завещание написал...
– Что ж... конечно. У него было уже два инфаркта, и последний год каждый день болело сердце...
"А таскал меня на плечах," – подумал Журка и через рубашку погладил письмо.
В это время приехал папа, злой и веселый. Злой потому, что контейнером с багажом на станции "еще и не пахло", хотя отправили из Картинска месяц назад. А веселый потому, что заехал в мебельный магазин и "ухватил" там две модные деревянные кровати и неширокую поролоновую тахту – для Журки. Кровати маме понравились, а про тахту она сказала:
– Ничего. Только цвет скучноватый.
– Зато недорого. Да и не было других. Не спать же парню на полу...
Грузчики и отец втащили тахту в комнатку. Журка скинул кроссовки, вскочил на нее, попрыгал. С тахты можно было дотянуться до верхних полок, куда Журка еще не добирался. Теперь он подпрыгнул и выхватил из ряда книг томик в желтой облезшей коже. Неловко повернулся и чуть не полетел на пол. Папа его подхватил.
– Не скачи, шею свихнешь... Дай-ка взглянуть. – Он взял у Журки книгу и открыл ее с конца. Покачал головой:
– Ну, насобирал дед музейных ценностей. И где только деньги брал?.. Юля, ты глянь...
Мама подошла, и он показал ей и Журке на обороте обложки лиловый штамп и размашисто написанные цифры: 65 р. Провел глазами по полкам.
– Это еще ничего. Есть томики – по полторы сотни стоят... Вот наследство! А, Юрка? Я спрашивал знающих людей, они говорят, что есть специальный магазин, где эти книжки за такие суммы продают и покупают...
Журка испуганно встал спиной к полкам.
– Папа, не надо...
– Что не надо?
– Не надо в магазин... Дедушка мне оставил.
Отец сказал с легким удивлением, но терпеливо:
– Я понимаю, что тебе. Но тебе они зачем? Это же не детская литература.
Журка упрямо проговорил:
– Все равно. Это книги...
– Ну какие книги! – уже раздражаясь, воскликнул отец и открыл титульный лист у той, что в руках держал. – "Экстракт штурманского искусства из наук, принадлежащих к мореплаванию, сочиненный в вопросах и ответах для пользы и безопасности мореплавания..." Что это тебе, "Дети капитана Гранта"? Тут и буквы-то такие, что не разберешь...
– Я разберу.
– Ну ладно. А к чему? Если моряком захочешь стать, не по этой же книжке будешь учиться. Она устарела на двести лет!
– Не хочу я моряком... Не в этом дело...
– В дурости твоей дело! – в сердцах сказал отец. – Ну, оставил бы "Робинзона", "Мушкетеров", это я понимаю. А к чему архивные сокровища? Они только специалистам нужны.
– Мне тоже нужны, – негромко, но четко сказал Журка и поднял заблестевшие глаза.
– Саша, не надо об этом. Потом... – тихо и торопливо сказала мама. И за локоть повела отца к двери.
– Я и потом не дам. Это мои! – звонко сказал Журка вслед. И сам удивился: никогда он с мамой и папой так еще не разговаривал.
Отец обернулся, вырвал локоть, присвистнул и медленно сказал:
– Ты смотри-ка... "Не дам", "мои"... Ну, давай посчитаем, у кого здесь чье... У тебя вон штаны из моих перешиты...
– Саша...
– Да подожди ты! "Саша", "Саша"! – взорвался отец. – У сыночка вон что прорезалось. Воспитали буржуйчика! Наследник...
Журка прижался лопатками к полке и сморщил лицо, чтобы не разреветься. Мама сжала губы, опять взяла отца за локоть и утянула из комнаты. За дверью она что-то тихо сказала ему. А отец опять заговорил негромко и зло:
– Да брось ты! Вон Пушкин стоит, Гоголь, Стивенсон – я их сам ни на какое барахло не сменяю. Даже Диккенса твоего, хоть и занудно он писал! Но у Юрки-то блажь!
Мама опять заговорила негромко, и опять отец ответил во весь голос:
– Ну ясно, где мне понять ваши тонкости! Мое дело вкалывать. Знаешь, романтика – штука полезная, но жить тоже надо по-человечески. А мы? Вместо мебели рухлядь, холодильник трясется, как припадочный, телевизор почти что этим книгам ровесник... Кстати, Юрке за две такие книги можно мопед купить...
Кажется, мама сказала: "Этого еще не хватало..." А потом опять заговорила неразборчиво. Журка, глотая слезы, прислушивался, но слов ее так и не мог понять. А отец вдруг воскликнул:
– Ну хорошо, хорошо! Не скажу об этом больше ни слова!.. Я пень, я молчу... Только пускай не ревет. Вот дамское воспитание: чуть чего – и сразу сырость из глаз! Недаром всю жизнь с девчонками играл...
На этом все и кончилось. Больше отец ни разу не завел разговора о книгах. Через час они с Журкой как ни в чем не бывало прибивали карнизы и вешали шторы. Журка два раза съездил себе молотком по пальцам, но не пикнул. Чтобы опять не услышать про дамское воспитание.
Отец на это воспитание и раньше любил намекать. Растет, мол, кисейная барышня. И насчет девчонок посмеивался. Но разве Журка виноват, что в том дворе на Московской жили в основном девчонки? Конечно, Журка играл с ними и, надо сказать, всегда по-хорошему. Но настоящим другом его был Ромка.
Кстати, Ромка никогда-никогда не смеялся над Журкой, они оба понимали, что главное в человеке – характер, а не то, что девчонка он или мальчик.
И здесь через три дня после приезда Журка ничуть не жалел, что познакомился в парке с Иринкой, а не с каким-нибудь Вовкой или Сережкой (тем более, что такого, как Ромка, на свете все равно больше нет). Иринка была веселая, хорошая. И мама ее тоже. И дома у них было так здорово – особенно та картина с кораблем. В этом корабле было что-то знакомое... Вот что! Он словно пришел из дедушкиных книг...