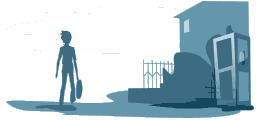Домовой. Ночная история
1
Елька был сейчас такой, каким его Митя недавно представил: съеженнный, виноватый, освещенный желтой лампочкой. Только не в будке, а рядом с крыльцом, у скамейки. Он казался озябшим, хотя вечер был пушистый от тепла. Он быстро качнулся навстречу Мите, вытянул цыплячью шею. Но тут же опустил голову.
-- Давай,-- решительно (чтобы задавить неуверенность в себе) сказал Митя.-- Выкладывай, что у тебя?
-- Здесь? -- шепнул Елька.
-- Ну... если хочешь, пойдем ко мне.
-- Нет... пойдем лучше на мою горку.
-- Где это?
-- Недалеко... Я там часто сижу. Такое место...
-- А зачем нам туда?
Елька длинно втянул ртом воздух, длинно выдохнул. Обнял себя за плечи. Глянул вбок. Сказал еле слышно:
-- Потому что там легче говорить про... такое... когда надо признаваться...
-- В чем? -- так же тихо спросил Митя.
-- Ну... пойдем,-- и глянул исподлобья. Как там, у дороги, когда речь пошла о деньгах.
-- Елька... а почему ты решил в чем-то признаваться? Почему мне?
-- Но ты же сказал, что «тебе половина и мне половина». И что это не просто так...
«И значит, ты мой друг»,-- мысленно закончил Митя мысль наивного Ельки.
Самым разумным было отказаться от такой дружбы. По крайней мере, до утра. Совсем не хотелось тащиться среди тьмы на какую-то горку. Мелькнуло даже опасение: «А вдруг этот птенчик пудрит мне извилины, вдруг у него большие дружки из Тракторной усадьбы? Заведут куда-нибудь, а там...» Сразу стало противно от такой боязни, но она не исчезла.
И все же другая боязнь оказалась весомей: та, что, если сейчас он вернется домой и благополучно сядет за компьютер, а потом спокойненько ляжет спать, вот этого «спокойненько» не получится. А получатся тошнотворные угрызения, что оставил доверчивого пацаненка, у которого не то беда, не то какие-то страхи...
И даже не скажешь: «Меня дома взгреют, если сейчас не вернусь», потому что это будет опять же трусливое вранье.
-- Елька, а тебе от твоей мамы Тани не влетит, что шастаешь так поздно?
-- Не-е! Она сегодня дежурит в госпитале.
-- Что ж, идем,-- обреченно сказал Митя. И вспомнил, что «приключения -- это неприятности, о которых потом интересно вспоминать». Будет ли интересно, он сомневался.
2
Приключения начались очень скоро. Елька и Митя пересекли большущий, окруженный девятиэтажками двор, мимо трансформаторной будки и мусорных контейнеров выбрались на ближний пустырь. Сюда уже не достигал бледный свет окон и редких фонарей. Воздух был теплый, и темнота буквально липла к лицу. А еще липла висевшая на высоких сорняках паутина. Ловкий Елька посапывал впереди.
-- Р-романтика.-- сказал Митя и тут же угодил в неглубокую яму с кирпичным щебнем -- ладонями и пузом. Чуть не заревел.
-- Стой ты! Куда мы премся? Очумел, что ли?
-- Уже недалеко.-- Елька взял Митю за локоть очень теплыми пальцами.
«И чего я с ним потащился?»
Вот ведь какие фокусы выкидывает с нами жизнь! Сидишь в своей комнате щелкаешь, на уютно светящемся компьютере и не ждешь ничего такого, а через пять минут влекут тебя куда-то по ночным буеракам. Зачем? Ссадины болят, в голове гуденье. В душе страхи. Да еще крапива тут подлая...
Нырнули в густую кленовую рощицу. Здесь был уже полный мрак. Зато листва -- ласковая и прохладная. Гладила по лицу, слизывала с кожи зуд и жжение... Слева проступили сквозь листву окна Тракторной усадьбы. Свет их виднелся редко: видимо, жильцы там ложились рано...
-- А вон тот самый телефон,-- вдруг сказал Елька. Но Митя ничего не различил, потому что хоть глаз выколи.
Иногда Елька шептал:
-- Сейчас... Уже совсем сейчас...
Это «сейчас» показалось Мите часом. Но в конце концов дорога (ох уж «дорога», черт ногу сломит!) повела вверх. Опять же сквозь чертополохи и по мусорным кучам, но -- это ощущалось! -- к простору и свободе.
И вот он -- простор! Часто дыша, Митя оглянулся на верхушке бугра. И сразу понял, что ушли они с Елькой совсем недалеко. Вон его, Митин, дом светится окнами в сотне метров. Вон, под боком, Елькина Усадьба. А в промежутке среди девятиэтажек знакомо мерцает желто-красная реклама страховой компании «Сириус» (где работает мама)...
-- Садись,-- шепнул Елька и потянул Митю за футболку. Тот покачнулся, сел на что-то неровное. Кажется, это была глыба спекшихся кирпичей. Митя подышал на поцарапанные ладони, глянул вверх.
Большие звезды были похожи на мохнатых шмелей. Казалось даже, что они тихонько жужжат (хотя это гудел, конечно, тысячами отдаленных моторов и генераторов город). Снизу подымались пушистые пласты воздуха. Вперемешку -- нагретые и прохладные. Поэтому звезды вздрагивали и шевелились.
Елька приткнулся рядом и молчал. Митя ощутил его колючее плечо. Не было теперь у Мити ни страха, ни досады. Было... да, хорошо. И, кажется, Митя понял, почему здесь у Ельки любимое место. Не у маленького акробата и клоуна Ельки, а вот у этого -- тихого, с непонятной тайной.
Чтобы начать разговор, Митя сказал:
-- Сколько тут живу, а не знал, что рядом такие джунгли.
-- Ага...-- И Елька повозился у Мити под боком.
-- Ну... ты давай. Говори, зачем позвал-то?
-- Ага... Мить, ты можешь поменять мне мои деньги?
-- Как поменять?
-- Мне надо, чтобы сто рублей одной бумажкой...
-- Ты ненормальный, да? Ты меня за этим сюда волок?
-- Нет, я нормальный. Просто мне очень надо...-- И Елька зябко вздрогнул (уж не всхлипнул ли?).
Митя сказал осторожно:
-- Посуди сам: откуда у меня с собой сто рублей? Тем более одной бумажкой. Ты же помнишь, крупнее десяток нам не давали. Да и тех уже нет, отдал родителям, потому что дома ни гроша...
-- Вот и я хотел отдать,-- прошептал Елька.-- Маме Тане. Только надо обязательно одной деньгой. Такой, как я у нее... стащил.
Митя, кажется, присвистнул. Не нарочно. И съежился от неловкости. А Елька -- опять шепотом:
-- Я хотел сам обменять, подошел к одной тетке, что на улице помидорами торгует, попросил... А она: «Где столько набрал! Жулье паршивое! В милицию тебя!» Ну, я и бегом от нее... А потом подумал про тебя. Подумал: может, ты поможешь...
«И затеял этот дурацкий ночной поход!» Опять заныли ободранные ладони и ушибленный подбородок. Снова толкнулась досада на этого дурака. Но лишь на миг. Потому что почти сразу -- догадка. Дело же не только в сотенной бумажке. Главное для Ельки -- признание.
-- Совесть, что ли, заела? -- насупленно сказал Митя.
-- Ага,-- охотно откликнулся Елька.-- Она давно заела... Я в начале каникул в больницу попал, весь июнь там лежал и все думали, что умру. Правда... И сам я думал. А не охота же. И я пообещал, что, если останусь живой, обязательно признаюсь. Про это дело...
-- Кому пообещал?
-- Ну... вообще. Взялся за крестик и прошептал... это...
-- И тут же начал поправляться? -- сказал Митя. И сразу испугался: не подумал бы Елька, что он насмехается. Елька не подумал. Вздохнул:
-- Не сразу. Потом уж...
-- Елька, зачем ты мне-то про это говоришь? Взял бы да и признался ей... маме Тане. Раз уж так вышло...
-- Я так и хотел сперва. А потом боязно стало, сил нет...
-- Испугался, что отдаст в интернат? -- напрямик спросил Митя.
-- Не отдаст она! Куда она без меня? Я же у нее один...
-- А тогда чего же?
-- Она... просто заболеет вся. Или руки опустит и начнет глядеть куда-то мимо. И так вот, будто плачет, хотя и без слезинок: «Хочешь быть такой же, как отец?..» Это ей страшней всего...
-- Но ты же сам сказал, что хотел ей деньги вернуть.
-- Ну да! Я обрадовался, когда, когда ты их дал. А потом подумал: она расстроится, что я такой. И загадал...
-- Что загадал?
-- Помнишь, я рубль метнул? Орел или цифра? Если цифра -- признаюсь. Если орел -- скажу, что нашел деньги за шкафом. Ты, мол, обронила их давным давно, они туда завалились... Потому что я их из шкафа тогда вытянул, из-под белья. Мама Таня там всегда документы и деньги прячет... Эту сотню отец дал, когда зимой приезжал, заходил последний раз. Мама Таня ее на одежду мне отложила. А потом: «Ох, куда же я ее засунула, голова дырявая!..» Так убивалась...
-- А на тебя не подумала?
-- Вот ни на столечко даже! Я ведь никогда раньше... ничего такого... Конечно, в школу ее не раз вызывали, потому что или в двойки закопаюсь, или по поведению «неуды», но это за всякие «цирковые представления». А не за это. Даже если в классе у кого-нибудь что-нибудь своруют, на меня никогда не думали...
-- А сотню-то зачем стянул? -- с прежней насупленностью спросил Митя. Он чувствовал: Ельке надо выговориться до конца.-- Погулять захотелось?
Елька слегка отодвинулся. Спросил холодным шепотком:
-- Ты думаешь, я для себя, что ли?
-- А для кого?
-- Не для себя я. Для одного парня...
-- А! Он из тебя дань выколачивал, да?
-- Не выколачивал он... Мить, а ты не выдашь? -- И опять вздрогнул. И снова Митя ощутил, какой он, Елька, беззащитный со своими непонятными страхами. Кашлянул от жалости, обнял его плечо.
-- Не выдам. Неужели я похож на сволочь?
-- Мить, понимаешь... он убежал из армии.
-- Дезертир?
-- Ну... наверно... Я в январе забрался в один старый дом и там его увидел...
И шелестящим шепотом (похожим на шуршание мохнатых звезд) Елька поведал про свою короткую дружбу с беглецом.
3
Дом был тот самый, у которого потом, летом, Елька попал в ловушку. Обугленный с одного угла, чернеющий окнами без рам. Ельку понесла туда странная фантазия. Представилось вдруг, что в доме есть кладовки с брошенным имуществом, среди которого можно отыскать старые лыжи. Конечно, были и здравые мысли, что из дома давно уже растащено все, что хоть чуточку для чего-нибудь пригодно. Однако чулан с тряпьем, хламом и раздавленными бочками, из-за которых торочат забытые хозяевами лыжи, представлялся очень ярко. Елька даже ощущал запах застарелой лыжной мази. Так хотелось, чтобы появились у него свои лыжи.
Было около пяти часов -- синие снежные сумерки. А в доме -- совсем тьма. Елька с дрожащим огоньком свечки (фонарика у него не было) обошел оба этажа. Конечно, страшно было, но не до полного ужаса, терпимо. Елька слышал, что нечистая сила в заброшенных домах появляется только после полуночи, а бомжи и гопники зимой, в такие промороженные развалины вообще не суются.
Чуланы в доме нашлись, но пустые. Какие там лыжи! Огорченный Елька стал спускаться по скрипящей от мороза и ветхости лестнице, свернул к боковому выходу и вдруг заметил под лестницей дверцу. Задрожал почему-то. Но не отступил. Правой рукой повыше поднял огарок, левой потянул дверную ручку.
Вниз уходили ступени. Там была еще дверь. За ней сильно пахло дымом и плясали красные отблески.
Самое время было дернуть домой.
Но слабый голос позвал:
-- Эй, не уходи... Не бойся.
Елька метнулся было назад и... замер.
-- Братишка, постой... У тебя хлеба нету?
-- Понимаешь, Мить, он там три дня голодом сидел. Растянул жилу на ноге, далеко уйти не мог, вот и прятался. Знал, что ищут. Вместо воды снег жевал. Сделал маленькую печку из дырявого бака, топил обломками, которые нашел там. А иначе бы замерз насмерть... Боялся только, что дым наружу пойдет и его увидят. Но все равно греться-то надо... А спал среди всякого тряпья, оно валялось там в подвале. Мешки какие-то и гнилой брезент... Рубаху свою разодрал, снег растопит в банке, потом в горячую воду обмакнет тряпку и ногу обматывает, чтобы опухоль прошла...
-- А почему он убежал? От дедов?
-- Ну да. Там амбалы всякие, сержанты... Они молодых солдат в город посылали деньги добывать и сигареты. А кто не принесет, тех лупили по-всякому. Не просто, а с издевательствами... Ну, он один раз пошел и ничего ни у кого не выпросил. И побоялся в казарму идти. Побрел куда глаза глядят. Подкатился на льду, нога подвернулась, идти не может. Ну, видит пустой дом, забрался... А еды-то никакой. Я сбегал домой, хлеба ему принес, картошки...
-- Значит, он тебя не боялся?
-- Не-а... Сперва только спросил: «Никому не скажешь?» А я говорю: «Я же знаю, я в интернате жил. Там вроде как у вас...»
-- А что... там правда так плохо?
-- Там... большие пацаны чего только не творят с младшими. Я уж по-всякому там акробатничал, чтобы больше смеялись и меньше приставали, а все равно... Тоже бежать хотел, потому что даже у отца не так худо, как там... Потому что он, пока не выпьет, то ничего... А когда поддаст, не сильно, а средне, тогда и давай воспитывать. Поставит перед собой, велит «руки по швам» и с размаха по щекам -- хрясть, хрясть. Справа, слева... А потом возьмет за шиворот и чем под руку попадет... Мить, а тебя дома лупили когда-нибудь?
Надо было бы утешить Ельку, сравниться с ним судьбою, сказать: «С кем такого не бывает...» Но Митя не решился.
-- Всерьез никогда. Ну, бывало раньше, что мама даст шлепка сгоряча...
-- Это не считается.
-- Не считается... А отец кричит иногда: «Где мой ремень?!» Но это вроде забавы...
-- А их там, в части, солдатскими ремнями... Он мне один раз отпечаток звезды показал на плече... Это уже потом, когда мы про всякое разговаривали. Он знаешь как говорил? «Ты,-- говорил,-- не думай, что я трус. Я, когда пацаном был, с железного моста в нашу речку прыгал, с высоченного. Вся ребята боялись, а я прыгал. И драк не боялся. А тут ведь не драки. Навалятся, руки вывернут, к полу прижмут... И самое страшное, что нет никакой надежды на защиту, никто не заступится...» А еще он сказал, я точно запомнил: «Выворачивают наружу и вытряхивают из тебя человека до последней крошки. Я,-- говорит,-- с врагами воевать не побоялся бы, если на фронте. А здесь как? Вроде бы свои, а хуже врагов...»
Елька замолчал и задышал, как после частого бега. Его острое плечо еще сильнее уперлось Мите под мышку. Митя не знал, что сказать, и спросил:
-- А как его звали?
-- Не знаю. Он не назвался. Объяснил, что, если имя неизвестно, то труднее проболтаться. Говорит: «Зови меня «Домовой», а я буду звать тебя «Братишка». Потому что,-- говорит,-- я всегда хотел, чтобы у меня был маленький брат, а не было никого...»
-- А потом что?
-- Мы с ним несколько дней встречались. Я еду приносил, разговаривали... Он рассказывал, как маленький был, как в индейцев играли. Один раз даже сказку рассказал. Про маленького принца, который подружился с лисом... А потом нога у него вылечилась и пришло время уходить.
-- Куда уходить-то?
-- Он точно не сказал. Говорит: «Мне бы добраться до станции Остаткино, а там пересесть на поезд в сторону Северо-Посадска. По пути к нему, в одном городке,-- говорит,-- есть у меня школьный друг, а его родители далеко у моря живут. Может доберусь до них, устроюсь на рыбацкий пароход -- и в дальние края...»
-- Без документов-то?
-- Ну, я не знаю. Он так говорил. И еще: «Конечно, скажут, что это измена родине, только я ей ни чуточки не изменял и воевать за нее буду изо всех сил, если придется, а против нее никогда не буду... А ты что про меня думаешь, Братишка?» А я думал, что мне его жалко...
-- И взял дома деньги ему на дорогу?
-- Ну да. А еще нашел в нашей кладовке старый ватник и рваные отцовские штаны. Потому что как бы он поехал в своем камуфляже? Сразу поймают. А в фуфайке и старых штанах -- он все равно что вокзальный бомж. Он ведь зарос весь, бритвы-то не было... Мить, я ведь даже не знаю, какое у него лицо на самом деле, из-за этой бороды. Помню только, что глаза синие и худой такой... И голос не взрослый, а почти как у пацана... Он вещи и деньги взял, за руки меня подержал и говорит: «Скажи мне свой адрес. Может, когда-нибудь в жизни встретимся... А сюда,-- говорит,-- больше не приходи, ночью я уйду». Я всю ночь ревел потихньку, а утром все же пришел. Но никого там уже не было...
И замолчал Елька надолго. И сидели так они рядом. А пласты воздуха все шевелились вокруг -- мягкие, с запахом созревших трав, остывающего асфальта и бензина.
Громко затрещал кузнечик. Митя удивился. Раньше он никогда не слышал ночных кузнечиков, даже в деревне. Кузнечик будто разбудил электричку. Она вскрикнула и промчалась за дальними тополями.
Звезды смутно высвечивали узкую громаду «Белого дома», едва различимую. В ней неярко горело лишь одно высокое окошко (наверно, там сидел дежурный).
Елька шевельнулся. Митя сказал:
-- У меня на ближней почте есть знакомая женщина, я к ней всегда бегаю покупать газеты. Завтра утром попрошу обменять твои деньги. Давай их сюда.
-- Они ведь дома. Я принесу завтра пораньше. Ладно?
-- Ладно. Я живу на пятом этаже.
-- Лучше я подожду тебя внизу, на лавочке.
-- Ну, как хочешь... Ровно в девять.
-- Ага...
Обратный путь показался коротким и нетрудным. На краю Митиного двора Елька шепнул: «Завтра в девять» и ускользнул в темноту. А Митя помчался в подъезд, нащупывая в кармане ключи.
Напрасно нащупывал. Родители были дома. И «ну, началось!»
4
-- Где? ты? болтался?!
-- Я откуда знал, что вы вернетесь так рано? Обычно приходите среди ночи...
-- Это -- рано?! Посмотри на часы! Мы ждем тебя уже целый час! Я поседела за это время!
-- И вовсе не заметно...
-- А ты хотел, чтобы стало заметно?! Где? ты? был?!
-- Да совсем рядом! Разговаривал с одним мальчишкой. У него... семейные проблемы, он просил совета.
-- Знаю я этих мальчишек! И их проблемы! Они кончаются милицией!
-- Господи, да это же Елька! Ну, с которым мы продавали картошку. Ему десять лет!
Мама сказала, что читала про шайку второклассников-рэкетиров, где главарю было девять.
-- Но он же не шайка, а один-одинешенек!
-- Откуда мы знаем? Сперва один, потом дружки, у которых сигареты и клей «Момент»! А там, глядишь, и посадят на иглу...
-- Да. Тем самым местом. И я буду вертеться на ней, как компасная стрелка. Были в древнем Китае такие магнитные фигурки: сидит задом на острие и рукой показывает на юг.
Папа сказал, что упомянутое место пострадает у Мити еще до иглы.
-- Рита, будь добра, принеси из шкафа мой коричневый ремень.
-- Охотно,-- сказала мама. И принесла.
Митя тем временем нацелился за шкаф. Между стеной и книжным шкафом был узкий промежуток, в котором торчала батарея. Втиснешься с размаха туда, на батарею,-- и прекрасное убежище. Но папа успел придвинуть к этой щели стул. Уселся.
-- На сей раз не выйдет, голубчик.
Митя стремительно лег и змейкой ушел под тахту (хорошо, что ножки высокие). Зафыркал от пыли.
-- Вылезай немедленно! -- приказала мама.
-- Я, по-вашему, кто? Идиот?
-- Ты -- трус,-- сказал папа.
-- Я здравомыслящий человек. Подожду, когда ты успокоишься.
-- Ладно, вылезай. Наглотаешься микробов, там не мыто с прошлого года.
-- Как это «с прошлого года»?! -- взвинтилась мама.
-- А гарантия безопасности? -- спросил Митя.
-- Никаких гарантий... Убирайся оттуда, кому говорят!
Митя выбрался на свет.
-- Так и быть... А ты, папа, пожалей себя. Подумай, вдруг в самом деле огреешь нечаянно. И тогда -- что?
-- Что?
-- Будешь терзаться неделю.
-- С какой стати?
-- Но ты же интеллигент в третьем поколении.
-- В четвертом, между прочим...
-- Тогда две недели.
Мама сказала. Что на папе род интеллигентов Зайцевых и закончится. Потому что сын их катится в пропасть беспутства и безделья.
-- Безделья?! А кто сегодня картошку продал?!
-- Этим подвигом ты будешь гордится до старости! К тому же, ты сам уверял, что главная заслуга здесь не твоя, а этого... Ельки. Кстати, что за странное имя?
-- Почему странное? Может, Елисей, а может... Елизар. Или просто кличка такая.
-- У порядочных мальчиков не бывает кличек.
-- А почему меня в той школе звали Косым? Два года подряд «Косой» да «Косой»!
Его и правда так звали. Из-за фамилии. Известно, что зайцы -- косые.
-- А кто сказал, что ты порядочный,-- хмыкнул папа.-- Кстати, порядочные люди не забывают выключать компьютеры, даже убегая из дома сломя голову.
-- Я же думал, что на минутку! Файл-то я сохранил.
-- И напрасно. Больше ты к компьютеру не сунешься,-- пообещала мама.
Митя устало подышал. Угроза была пустая. Да и повесть, которую он так удачно начал, казалась теперь несерьезной. По сравнению с Елькиной историей.
Мама будто услыхала его мысли.
-- А что за проблемы у твоего Елизара-Елисея?
-- Примерно как у меня,-- выкрутился Митя (не излагать же про дезертира и кражу).-- Папаша лупит его чем попадя и вообще всячески идевается.
-- Это когда я тебя лупил чем попадя?! -- тонким от обиды голосом возопил Зайцев-старший.-- Я тебя вообще... хоть раз... хоть когда...
-- Конечно, нет,-- успокоил Митя.-- Иначе я сразу написал бы возмущенную статью в ваш «Физический-металлический бюллетень». «Физические методы воспитания интеллигента в пятом поколении».
-- Трепло,-- сказала мама.-- Немедленно марш спать!
Митя лег. Потому что вдруг очень устал и вновь заболели ссадины. Митя закрыл глаза, и опять зажглись над ним мохнатые звезды. И в бок ему будто снова уперлось маленькое острое плечо. Эх ты, Елька...