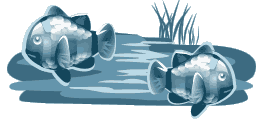Это был мятый голубок из клетчатого тетрадного листа. Сопливик выдернул у него хвост, завернул в бумажную полоску крошку винтик, затолкал в боковой карман Валентиновой куртки.
— Ой, а почему у вас в кармане сыро?
— Так полагается, — буркнул Валентин. И вмиг ощутил, как кольнула Сопливика обида. Тогда он нагнулся, сказал шепотом: — Жень, это секрет. Про рыбку... Потом объясню...
Сопливик моментально оттаял. Опять сдернул с трубы кольцо, надел его на палец, покрутил. А в трубу стал оглядывать горизонт.
— Везде только трава и трава...
— Дай-ка, — попросил Валентин.
В самом деле — луг тянулся до края земли. А там, на краю, лежали пухлые, желтые от солнца облака... Сопливик вдруг сказал тихонько под боком у Валентина:
— Дядь Валь... А когда я буду в интернате... и когда буду иногда приходить к тебе... ой, к вам... вы будете давать мне посмотреть в трубу?.. — И замер. А Валентин услышал, как нарастает в ушах дневной солнечный звон.
— Да... — выдохнул он. Шевельнул от этого “да” трубой, и в объектив попала часовенка. Близкая, рукой дотянешься.
Вросшая в землю дверь была приоткрыта. За ней — тьма...
— Подождите меня, я взгляну, что там... — сказал Валентин Сопливику и чуке. И зашагал к часовенке, шурша брючинами по траве.
Он не взял с собой Сопливика сразу, потому что боялся: вдруг там только мусор, грязь и нет такого, что может обратить мысли к чему-то хорошему. Но, протиснувшись в дверь, ахнул и подумал: “Может, и впрямь — судьба?”
Нет, здесь не было тьмы. Сквозь развалившуюся крышу солнце входило широко и свободно. Высвечивало стену слева от двери. На стене проступала фреска. Проступала сквозь пыль, пятна, лишаи и, казалось, даже сквозь места, где штукатурка обвалилась, обнажив почерневший камень. Такой живой была кисть давнего неизвестного мастера.
Мастер этот изобразил старика и мальчика. В натуральный рост.
Высокий безбородый старик — седой, со строгим лицом, в длинной одежде — правой рукой опирался на рукоять меча. А левую он высоко, ладонью вверх, держал над головой мальчишки, словно защищал его то ли от дождя, то ли от жгучих лучей. Или от какой-то возможной беды... А мальчик тянулся вверх, вскинув руки и сцепив их пальцами. Тонкий, голый, с отчетливыми птичьими ребрышками, он ничуть не боялся своей беззащитности и хрупкости, потому что знал о незыблемой охранной силе старого воина. Было в мальчике сдержанное веселье и даже лукавство, которое может позволить себе ребенок, когда взрослые любят, а порой и балуют его. И не дают в обиду...
Итак, первая мысль была о судьбе. А еще — радостное сознание, что не ошибся.
Вторая мысль была: “А ведь я уже видел такое...”
Вспомнился старый альбом в библиотеке художественной школы — “Искусство забытых цивилизаций”. Там была репродукция: старик и мальчик. Только снимок был сделан не с фрески, а с мозаики. А внизу — малопонятная подпись: “Мозаика в подземном храме-обсерватории, Итта-даг, IX—X вв. (?)”.
Что Итта-даг и как обсерватория может быть подземной — ничего не ясно...
И сейчас было неясно. Кто написал этот образ вот здесь, неподалеку от Свирска? Почему об этом чуде никому не известно?
Впрочем, столько всяких “почему” за последние дни...
Ясно стало только одно: старик — один из Хранителей, о которых говорил Юр-Танка. Может быть, даже Первый Командор...
Нет, не случайно привело их с Женькой в эти места колечко...
Валентин, пятясь, вышел из часовни. Вернулся к Сопливику и чуке. Сопливик ждал с испуганным вопросом в глазах.
Валентин бросил в траву куртку — рядом с Илюшкиной одеждой, взял у Сопливика, положил на куртку трубу.
— Ты спрашивал, буду ли давать тебе ее. Буду... Чука, покарауль наше имущество. Договорились?
Чука утвердительно чирикнул в ответ.
— Пойдем... Хотя нет, лучше вот так. — Валентин легко взял Сопливика на руки. Как малыша. Понес. Тот — и с испугом, и с доверчивостью, без вопросов — прижался к плечу Валентина щекой. От головы Сопливика пахло солнечным пухом.
С притихшим Сопливиком на руках, осторожно, чтобы не оцарапать его о камень, Валентин опять проник в часовенку.
— Женя, смотри.
Сопливик молча смотрел. И все прижимался щекой.
— Здесь много веков подряд был маленький храм, — сказал Валентин. — И сейчас он тоже — есть... Люди здесь молились Хранителям, чтобы те защитили их детей. И они — защищали... И вот, Женька, я тебе на этом месте обещаю: ты всегда будешь со мной... пока хочешь сам. Понял?
— Да... — тепло дохнул ему в плечо Сопливик. — Я... всегда буду хотеть... — И прижался плотнее.
Валентин все смотрел на фреску. Как ни терзало эту роспись время, а старик и мальчик казались живыми. Так выглядят живыми настоящие, не нарисованные, люди, если даже смотришь на них сквозь мутное, в пятнах и трещинах стекло...
Валентин подумал вдруг, что мальчик похож на Илюшку в последний момент перед полетом. Только не было в нем Илюшкиной напряженной тревоги...
Валентин вынес Женьку из часовенки и поставил на ноги. Тот взял его за локоть двумя руками. Прижался опять... Полсотни шагов до места, где ждал чука, оказались теперь длинным путем. Валентин и Женька успели много сказать друг другу.
— А я знал... — прошептал Женька. — Что ты меня возьмешь... к себе. Все ждал, ждал... когда скажешь...
Свободной рукой Валентин взъерошил ему волосы. Женька глянул, задрав острый подбородок.
— Дядь Валь, ты говорил... твою невесту тоже Валентина зовут, да?
— Что значит “тоже”? “Валентина” это ведь не “Валентин”. Ну да, похоже...
— “Валентин и Валентина” — такое кино есть, старое...
— Кажется, есть...
— А она... не прогонит меня?
— Нет.
— А если я буду... ну, чего-нибудь не так... не послушаюсь случайно или двойку получу, вы со мной хоть что делайте... Хоть как Мухобой. Я не пикну...
— А вот это не смей и думать, — решительно сказал Валентин. — У человека гордость должна быть. Не поддавайся никому.
— Я же не всякому, а только тебе... и ей... если виноват...
— Все равно.
— Дядь Валь... Я признаться хочу...
“Ну наконец-то”, — подумал Валентин. Опять провел рукой по его волосам.
— Давай, Жень. Теперь-то уж можно...
— Ага... Дядь Валь... я... стихи придумал. Про нас с тобой...
2
Стихи? Сопливик?
Если бы брякнулась Валентину под ноги тарелка с пришельцами, он изумился бы меньше.
Женька остановился. Засопел с тяжким смущением.
— Ну... — выговорил Валентин. — Тогда... расскажи.
Женька помотал опущенной головой. Чумазая щека налилась вишневым соком.
— Не... я стесняюсь...
— Да ладно тебе... Ну, раз уж сам сказал...
— Я лучше... Можно, я напишу?
— На чем?
Женька суетливо вытащил из кармана у пояса карандашик и остатки мятого голубка. Илюшкины. (Заранее припас, что ли?) Сел на корточки, развернул, расправил бумагу на коленке. Беззащитно оглянулся через плечо на Валентина. Тот отступил на шаг. Женька неловко задвигал карандашиком, прокалывая грифелем бумагу и царапая кожу... Он долго писал, старался...
Потом он, не вставая, протянул через плечо свое творение Валентину. И съежился, снова отвернувшись...
Написано было крупно и коряво, сплошными строчками и без всяких запятых. Мучаясь и жалея Женьку, Валентин прочитал эту полную ошибок беспомощность, где даже смысл поймать было трудно. Тряхнул головой. Вернулся глазами к первому слову, и... вдруг, словно от толчка, неуклюжие слова встали в строчки и обросли рифмами. Не на бумаге, а в голове Валентина.
Капли о крышу стучат, как часы,
Спать не дают в темноте.
Снова хочу я, чтоб был я твой сын,
Думаю в темноте...
Бьют, будто камушки о весы,
Капли среди темноты.
А я молюсь, чтобы я был твой сын,
Чтоб были мы — я и ты...
— Жень, — шепотом позвал Валентин.
Тот сидел к нему спиной. Шевельнулся, но не посмел оглянуться. Валентин сунул бумажку в карман с револьвером, обошел Женьку, поднял его за локти. Положил Женькины ладони себе на плечи. Сказал Женькиной опущенной голове:
— Ты замечательно написал... Это наши с тобой стихи. Для нас вдвоем, да?
Женька неловко кивнул. Ткнулся лицом Валентину в рубашку.
— Жень, ты меня прости...
Женька, царапнув рубашку подбородком, вскинул лицо. В темных глазах испуганный вопрос.
— Я все не понимал, Жень... Думал, ты не про это признаться хочешь. Не про стихи...
Женька шевельнул губами:
— А про что?
— Теперь уже все равно...
— Не... не все равно. Скажи.
— Я думал... про кольцо. Ну, думал, ты его... стащил тогда в лагере и сказать хочешь и боишься... Ты не обижайся.
Женька не обиделся. И не смутился. Замотал головой.
— Да нет же! Это не я! Это другие мальчишки! Они им играли, менялись, потом забросили куда-то...
— А ты... нашел?
— Да не находил я!
— Слушай... а винтик? Я его случайно в твоем кармашке обнаружил, когда стирал. Разве он не от трубы?
“Зачем я об этом? После всего, что было... После стихов...”
Но Женька опять не обиделся и не удивился.
— Винтик? Да это от будильника, наверно! Просто он такой же... А будильник старый, его на свалке нашли и развинтили... У Илюшки в карманах два таких винтика! Придем — покажу...
— А... кольцо? — сказал Валентин.
Женька непонимающе молчал.
“Зачем я об этом сейчас”, — опять подумал Валентин. И вновь не смог удержаться.
— Как оно в аквариум-то попало? Разве не от тебя?
— Да нет же! Оно там и было. Я... ну, просто почуял. А разве оно... то самое?
— Достань, — сказал Валентин. Он знал, что кольцо у Женьки в кармашке.
Женька послушно вытащил.
— Прочитай. Видишь, тут буковки: “Адмирал Волынов”...
— Ага... Но это... не так написано. Не по-нашему...
Валентин схватил кольцо, поднес к глазам. Буковки на внутренней стороне кольца складывались в еле различимые слова: “Capitan-comandor Crass”...
— Чудеса твои, Господи, — выговорил Валентин. Постоял. И мысленно сказал себе, что пора уже привыкнуть к чудесам и явлениям этого пространственного измерения.
А Женька проговорил полушепотом:
— Я ведь сразу понял, что оно не простое... И чука на него отзывается...
— Как джинн, — смущенно поддакнул Валентин. — Джинны, они тоже: потрешь медяшку, и они тут как тут... Читал?
— Ага... Нам воспитателка читала. Про Аладдина...
— Жень... — сказал Валентин. И вдруг обмер от случайной и мигом выросшей в надежду мысли. Он тут же одернул себя, попробовал запретить себе думать про такое. Конечно, всяких тут чудес хватает, но это... А может, опять все не случайно? Специально привело колечко по дорожке судьбы. И теперь главное — не упустить случай?
— Что, дядь Валь? — спросил Женька.
— Жень... Если чуки отзываются, как джинны, то, может, они тоже... волшебники?
— Маленько... — без удивления согласился Женька.
— Пойдем...
Чука терпеливо ждал их у сваленной в кучку одежды. Вертел в черных ручках трубу. Валентин опять присел перед ним.
— Чука, послушай... Ты ведь многое знаешь, да?
Тот положил трубку, кашлянул по-стариковски. Согласился:
— Кое-что да... ведомо...
— А заклинание для лунной рыбки... ведаешь?
Чука мигнул. Почесал косматую макушку. Сунул большой палец в рот, приоткрывшийся среди похожей на мочалу шерсти. Выдернул с чмокающим звуком. Сказал осторожно:
— Оно так... Чуки знают...
— Скажешь?
— Кха... Говорить так просто не велено... За это платить полагается. Чистым золотом...
— Как золотом? Ты... это в прямом смысле?
— В том смысле, что золотой денежкой или чем другим. Колечком обручальным, скажем... Вы, люди добрые, не подумайте, что от корысти. Правило такое с испокон веку...
— Тогда плохо. Нету у меня ни денежки, ни колечка...
Чука стеснительно посопел и напомнил:
— А рыбка-то золотая, зарытая. Небось уже превратилась в денежку.
— Где же я теперь ее найду? Ночь была... Да и места тут все перепутались...
— А ты не хлопочи, я сам найду. Ты только позволь...
— И скажешь заклинание?
— Коли позволишь денежку взять, я сейчас и скажу.
— Позволяю! Говори!
Чука опять пососал палец.
— Тут, мил человек, одна хитрость имеется... Никакого особого заклинания вовсе и нету. Надо вспомнить загадку детскую или считалочку, с которой во всякие игры прыгал-развлекался, когда малой был. А потом сказать ее наоборот. Ведь пружинку-то, что время двигает, хочешь задом наперед скрутить, а?
“Загадку, считалку...” Не помнил их Валентин. Не очень-то в детстве резвился он в догонялках-прыгалках. Может, вспомнить, что было у ребят в “Репейнике”? Как назло ничего не приходит в голову. Только лезет почему-то гамлетовское: “Быть или не быть, вот в чем вопрос...”
Женька стоял рядом, слушал разговор молча и ничего, наверно, не понимал. Но сейчас вдруг спросил:
— А моя считалка сгодится?
— Какая хошь. Только покороче, а то длинную задом наперед говорить без ошибок больно хлопотно...
— Она не длинная!
Месяц, месяц тоненький,
Не беги в туман!
Медную копеечку
Брось ко мне в карман...
— Годится, кха... — кашлянул чука. — Даже складно получится...
“Складно... Поди разберись, что получается...”
— Жень, дай карандашик... — Валентин положил на колено бумажку с Женькиными стихами. На обратной стороне нацарапал считалку (запомнилась-то она сразу). Потом по буквам переписал в обратном порядке. Черточками разделил на слова, чтобы читалось удобнее... Все равно абракадабра. Какой-то не то монгольский, не то тибетский наговор... Он прошептал с запинкой:
Намрак-венм-окьсорб
Ук-чеепок-юундем,
Намут-вигебен
Йикь-ненот цясем-цясем...
“А и правда ведь даже в рифму...”
— Ну вот, сказал, и ладно... — проговорил чука. Он рядом с Женькой посапывал у локтя Валентина.
— А разве потом... когда это... уже не надо говорить?
— А зачем? Единого раза на всю жизнь хватит... Доставай рыбку-то. Сколько вертеть, ведаешь?
Валентин ведал. Долго вертеть. Если один поворот — лунный месяц, то восемь лет — это девяносто шесть раз. А для ровного счета — сто. Лунный-то месяц короче календарного...
“Каким я туда вернусь? Таким, как сейчас, или помолодевшим на восемь лет? Буду ли помнить то, что случилось?.. Буду. Такое не забыть... А Женька? Какой он явится туда? Нынешний, десятилетний? Или младенец двух лет от роду? Не важно! Выращу заново и уж точно лучше прежнего... Ох...” — Он перепуганно посмотрел на чуку:
— Слушай! А двоим-то можно туда? С одной рыбкой.
— А чего же нельзя? Только пускай он держится за тебя покрепче... Ты число назначь загодя, а как рыбку с боку на бок повернешь сколь положено, то и все... Там и будешь, где задумано...
Какая-то часть сознания (второй слой его, самый здравомыслящий) подсказывал, что такого быть не может... Но ведь столько уже было!..
Валентин поднял куртку и достал влажный платок.
... Он много раз думал сегодня, что надо бы сделать это: развернуть, посмотреть, как там рыбка. Жива ли? Но вихрь дел закручивал, отвлекал... Да еще и боязливость мешала: развернешь, а никакой рыбки там нет...
Она была. Живая, серебристая, влажно-прохладная. Круглая, как полтинник. Когда Валентин положил ее на ладонь, трепыхнула хвостом. Но не протестующе, а как бы сказала “здравствуй”.
“Прости”, — мысленно сказал ей Валентин. Она смотрела умным крошечным глазком. Словно говорила: “Ничего, я для этого и есть на свете...”
Женька сунул к ладони нос, понимающе кивнул:
— А, это Юрика...
— Да... Держись за меня крепче, Женька.
Он тут же послушался, без вопросов. Обхватил Валентина за талию. Прочно...
Валентин аккуратно перевернул рыбку на ладони: “Раз...” — и подумал, что уйдет на все это дело минуты две...
— Два... три... четыре... пять...
Звенел воздух. Пекло солнце. Струилось тепло... Неужели скоро будет другое солнце? То, что светило восемь лет назад?.. А Сашка — что он скажет? Как встретит Женьку?.. А Валентина?..
— ...тридцать семь... тридцать восемь... тридцать девять...
На счете “сорок” с неба, как подбитая птица, упал Илюшка.
3
Он вломился в хрупкие стебли шагах в пяти от Валентина и Женьки. Прошло секунды три изумления и страха. Потом, конечно, бросились к Илюшке. А он уже поднимался. Раздвинул свои искореженные крылья, встал...
— Господи... Ты живой? — сказал Валентин.
Глаза у Илюшки были измученные, на щеках — полоски высохших слез. Он медленно, неуклюже сел на рваную алую ткань.
— Расшибся?
Он помотал головой. Валентин быстро присел рядом с ним.
— Почему ты вернулся?
Илюшка сказал еле слышно:
— Я вас искал... К тому дому подлетел, а там все уже не так... Полетел дальше, вас увидел... Вот... Я не знаю, куда мне еще...
— Илюшка, что случилось? Ну-ка, говори...
— Я от них улетел насовсем.
Говорят, человек излучает разные энергетические поля. Бывает вроде бы поле радости и поле горя, поле светлой печали и поле вдохновения. И так далее... Илюшка излучал безнадежность. Такую, что Женькина ревность шевельнулась было, но тут же угасла в этом разливе Илюшкиной тоски.
Валентин сказал опять:
— Что случилось-то?
Илюшка съежился, обнял коленки. Ткнулся в них лбом.
— Да я им ни за чем...
— С чего ты взял?
— Я не взял... Это правда... Сразу ясно сделалось. Потому что разговор такой...
— Какой разговор?
— Ну... такой. Человек на крыльях вернулся, а они: “Почему ты не вместе со всеми? Кто тебе разрешил летать? Где твоя одежда?.. А знаешь, сколько мы за нее заплатили!” А потом еще: “Почему про вас такие слухи?”
— Какие слухи?
— Ну... там уже разговоры. Будто мы... такие... С пришельцами, говорят, подружились, а это опасно... Я говорю: “Да неправда же это...” Только им уже все равно...
— “Им”... это твоим приемным отцу и матери?
— Да. Тете Лизе и дяде Андрею...
— Илюшка! Да они просто переволновались из-за тебя, поэтому и сердитые...
Он поднял на миг лицо — в глазах горькое понимание судьбы.
— Нет, неправда... Они причину искали. Потому что потом говорят... уже ласково так: “Знаешь что, Илюшенька, тебе придется еще пожить пока в интернате. Дело в том, что мы переезжаем в столицу, там неясно с квартирой. Когда все выяснится, мы дадим тебе знать... как только будет возможность...”
Вот так. И что тут скажешь? “Сволочи”, — подумал Валентин о неизвестных тете Лизе и дяде Андрее... Он все еще сидел на корточках рядом с безнадежно скорчившимся Илюшкой. Женька стоял рядом. Чука-дымовой деликатно держался поодаль. Может, не хотел слушать чужой разговор, а может, знал, что от его шкуры по-прежнему пахнет паленым. Равнодушно жарило солнце...
Рыбку Валентин держал на ладони. Она слабо трепыхнулась, будто напоминала о себе. Но как сейчас уйдешь? Разве оставишь среди пустого поля мальчишку, раздавленного сиротством?
Забрать с собой? Да не нужен Илюшке Валентин. У него, у Илюшки, своя привязанность, своя любовь... к тем, кто его предал. И второе: разве Женька в своей ребячьей ревности позволит, чтобы он, Валентин, стал отцом еще кому-то? Не так-то легко выжечь мальчишеский эгоизм, взращенный в интернатской казарме...
Валентин беспомощно сказал:
— Вернемся, и я поговорю с ними. С... тетей Лизой и...
Илюшка опять вскинул голову.
— Зачем? Дело ведь не в них...
— А в ком?
— Во мне, — совсем по-взрослому объяснил Илюшка. — Я сам виноват. По-другому ведь и не могло кончиться. Просто я был счастливый дурак и ничего не понимал... Даже того, что я изменник...
— Почему? — со страхом спросил Валентин. Будто ему самому кто-то залез холодными пальцами в душу.
— Из-за тети Маши... — признался шепотом Илюшка. — Она в прошлом году со мной на улице познакомилась. А потом в интернат ходила. Все “Илюшенька” да “Илюшенька”... Потом спрашивает: “Пойдешь ко мне жить?” Я говорю: “Не знаю...” Она хорошая, только... Ну, я глупый был! К другим все богатые, красивые приезжают, на машинах, а она... в старом платье всегда, пожилая такая... А тут как раз эти появились — веселые, на “линкольне”, с подарками. Раз, другой... “Ах, Илюша, как нам хочется, чтобы у нас был такой мальчик...” Ну, я и... вот...
— А... та? Тетя Маша? — вдруг подал голос Женька.
Илюшка ответил сразу. Он изливал свое покаяние, словно перед смертью.
— В то утро, когда все решалось, они, как нарочно, в одно время появились. Я на крыльце стоял, с него видно, потому что интернат на горке... С одной стороны калитка, а с другой — главные ворота. И вот эти к воротам подъехали, а тетя Маша от калитки идет. И две тропинки от крыльца, среди сирени... Мне бы налево побежать, к тете Маше, а я... туда... к ним... И еще думаю: лишь бы она не заметила... Потом, правда, совесть скребла маленько, но я себя успокоил: “Ей же, тете Маше-то, такой немолодой, со мной трудно было бы...” Да и не долго думал про это, потому что от радости все позабылось. Поверил, что у меня теперь дом свой... и родители... Только теперь понимаю, что так мне и надо...
— Ты же ни в чем не виноват, — вдруг сказал Женька. — Тебя просто обманули...
— А я обманул ее! Тетю Машу...
— Все ведь еще можно исправить, — нерешительно сказал Валентин. — Вернешься, встретишься с тетей Машей...
Илюшка глянул на него с тоскливым удивлением.
— Как же я встречусь? Если я ее предал...
— Ты не предал, а ошибся. Они тебя простит.
— Она-то простит. Я сам себя не прощу. Потому что я... Если бы эти от меня не отказались, я бы ведь и сейчас... жил бы такой радостный...
Валентин вдруг увидел, что Илюшка старше, чем казался. Не десять ему и не одиннадцать, а, пожалуй, не меньше двенадцати. Только ростом не вышел...
Илюшка опять ткнулся лбом в колени. Он вроде бы не плакал. Но проговорил так, что лучше бы слезами зашелся:
— Я теперь понимаю. Я им вместо игрушки был нужен... А тетя Маша... Если бы я тогда по другой тропинке побежал!..
Солнечный воздух зазвенел пуще прежнего. Будто в напряженном сне. В этом звоне Валентин спросил:
— А если бы вернуться туда, на крыльцо... выбрал бы теперь правильную тропинку?
— Еще бы... — выдохнул он.
“Вот и все, Валечка. Хотел убежать?.. Ты не мальчик, ты свою тропинку выбрал не по детскому недомыслию...”
— Встань, Илья, — резко сказал Валентин.
Тот метнул мокрый от слезинок взгляд — удивленный, с капелькой надежды. Послушно поднялся.
— Оденься... Женя, дай ему его одежду...
Илюшка торопливо натянул майку, шорты, носки, задрожавшими пальцами застегнул сандалии. Не разгибаясь, глянул с мучительным вопросом.
— В какой день это случилось? — хмуро спросил Валентин. — Когда ты побежал... не туда...
— В конце мая... двадцать девятого числа.
Валентин прикинул в уме. Получалось в самый раз: два лунных месяца. Случайность? Или опять все предопределено?
Уже совсем по-иному, мягко, Валентин проговорил:
— Сейчас вернешься обратно, Илюшка. В тот день... А там уж смотри, не ошибайся больше...
Илюшка улыбнулся грустно, без надежды:
— Сказок не бывает...
— Бывают... То, что ты летал, разве не сказка?
— Нет... Это экран гравитации...
— А это... обратный темпоральный вектор... Чука, надо ему читать заклинание?
— Не надо, — со стороны отозвался чука. — Ты прочитал, и ладно... Пускай рыбку сожмет. Чтобы, значит, хрустнула...
— Смотри, Илюшка. — Валентин, дважды крутнув, положил на его ладонь рыбку (она опять глянула понимающе, трепыхнулась хвостиком). — Зажмурься, рыбку сожмешь изо всех сил. Тут уж ничего не поделаешь, надо... И сразу будешь там... Это критта-холо, талисман обратного перехода...
Незнакомый термин, видимо, убедил Илюшку. Может, и не до конца, но все же... Он посмотрел на Валентина, на Женьку, на чуку (без удивления). На рыбку. Нерешительно сжал пальцы, закрыл глаза. Постоял, замерев... И раскрыл ладонь.
— Я не могу... Она живая...
— Надо, Илюшка. Иначе нельзя. Стисни зубы и...
— Но она живая! — с надрывом сказал Илюшка.
— Попробуй еще...
Илюшка опять спрятал рыбку в кулаке. Мучительно зажмурился... Чука подковылял, встал рядом.
— Кха... Не получается у мальчика. Сердчишко не то...
— Что же делать? — со стоном сказал Валентин.
— Сделать... кха... можно. У вас ведь колечко...
— Ну и что?
— И большое кольцо есть... Лучше бы тоже медное, да уж ладно. Вы его только обратно в круг превратите...
Валентин сперва не понял. Но Женька сразу метнулся, начал срывать с дюралевого обруча алые лоскуты.
— Дядь Валь, дай ножик!
Складным ножом он срезал все клочки. Поставил обруч торчком. Ухватился за верхний край, дернул вниз, чтобы эллипс опять превратился в круг. Обруч запружинил. Валентин помог. И дюралевое кольцо вновь обрело форму окружности...
— Вот и ладушки, — добродушно одобрил чука. — Вы колечко-то медное дайте мне...
Женька нерешительно положил в черную ладошку кольцо от трубы. Илюшка смотрел непонимающе и виновато. Чука, переваливаясь на коротких мохнатых щупальцах, подковылял к нему, забрал рыбку, отдал Валентину. И велел:
— Держи большое кольцо торчком. Вот так... И сынка своего держи покрепче. Чтоб, когда волна пойдет, не раскидала вас.
— Какая волна?
— Такая... Закинуть может неведомо куда... Не боитесь?
Женька крепко держался за Валентина. И не боялся.
— Выберемся, — сказал Валентин. — Илюшке помочь бы...
— И я про то же... Ты, малой, иди сюда. — Двумя щупальцами с ладошками он потянул Илюшку, поставил в двух шагах от обруча, который Валентин держал вертикально. Крепко держал. (А рядом — вцепившийся Женька, а на плечах — тяжелая от засунутой в карман трубы куртка; и рыбка в левом кулаке, и ощущение полной нереальности, путаного сна.)
Чука заковылял опять, встал позади Илюшки шагах в пяти. Поднял в пальцах колечко. Объяснил с важной ученостью:
— Вроде телескопа получается... кха... только не для света, а для времени. Называется хроно-скоп... Это я у одного научного человека подсмотрел, когда в его доме обитал. Этак лет, наверно, двести назад... Вот, оно даже чуется, как время-то в большое кольцо входит, а в малое летит со свистом...
Позади чуки на березовом кусте стремительно желтели, покрывались инеем, облетали и распускались опять листья.
Илюшка стоял с опущенной головой и повисшими руками. Отрешенный и будто задремавший.
— Ты, малой, шагай, шагай в кольцо-то. Супротив времени, значит, — поторопил чука. — А как уйдешь, я за денежкой поспешу.
— Рыбку... надо сжимать? — тихо спросил Валентин.
— Теперь не надо. Сама она...
— Иди, Илюшка, в кольцо, — неловко проговорил Валентин. Будто был в чем-то виноват.
Илюшка глянул без недоверия, но печально, словно прощаясь. Сделал шаг, второй... Пересек дюралевую окружность. И не стало Илюшки — будто не было никогда. Женька слабо вскрикнул. Сильнее обхватил Валентина. Тот растерянно глянул на чуку: что теперь? Рыбка рванулась, выскользнула из кулака.
В этот же миг дохнуло зябким ветром и упала тьма.