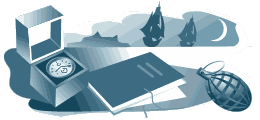Феникс
Вернулся Толик поздно. Получил за это от мамы легкую нахлобучку, подурачился с Варей и почувствовал, что все в жизни встает на свои места. Не такая уж она плохая, жизнь-то...
Но когда он лег, опять подкрались беспокойные мысли. Они боятся подползать, пока человек движется, занимается делами. А как ляжет — опутывают клейкой паутиной...
И пускай бы тревожные, но отчетливые, такие, чтобы можно было разобраться. А то ведь путаница. Про грозу и самолет, про пистолет без курка, про порванный картон с эмблемой. Про Головачева, про Шуркин рюкзак. И весь этот клубок ворочается, как в густом киселе, в ощущении вины и смутного страха.
Сон иногда накрывал Толика, но и во сне было не легче. Толик видел, как вдоль строя английских солдат, опустивших к земле штыки, движется черный бархатный балдахин. Позади идут офицеры “Надежды”, держа под мышками треуголки. Лысый, с белыми бакенбардами доктор Эспенберг тихо говорит Крузенштерну:
— Иван Федорович, вы же ни в чем не виноваты. Он был болен, вот и написал такое письмо. И не вам одному... Можно скорбеть о погибели, но обвинить себя нет никакой причины...
Крузенштерн молчит. Он знает, что причина есть, хотя еще и не разобрался в ней. И оттого, что не разобрался, особенно тяжело. Тот же клубок мыслей, что и у Толика.
Крузенштерн оборачивается к Толику:
— Ладно, я виноват. Но он-то зачем так? Тоже бросил экспедицию. Резанов бросил, он бросил...
Толик сжимается — сейчас Крузенштерн скажет: “И ты!”
Но Иван Федорович ничего не говорит больше, берет его за руку и ведет обратно. Они поднимаются на палубу “Надежды”. Паруса неподвижно и туго надуты, хотя корабль стоит у пристани... Но он недолго стоит. Крузенштерн кладет руку на штурвал, и “Надежда” начинает скользить в вечерней тишине.
Она не над водой скользит, а над булыжными мостовыми. Вдоль старых домов, где зажигаются желтые окошки. И Толик видит, что это не Сент-Джеймс, а Новотуринск. Знакомые улицы — Ямская, Уфимская, Запольная. Только желтые акации разрослись в громадные деревья. Мачты и реи цепляются за ветки с перистыми листьями и стручками. Подсохшие стручки лопаются, семена-горошины сыплются дождем и стучат по твердым выпуклым парусам.
...Это мамина машинка стучит. Маме надо как можно скорее допечатать последние листы “Островов в океане”.
Мама печатала и утром. Сквозь сон Толик услышал рассыпчатый треск “Ундервуда”.
Просыпаться окончательно и вставать не хотелось. Опять скребло в горле, и тупая боль вдавливала голову в подушку. Толик в полудреме томился страхом, что его сейчас заставят подняться и пошлют за водой, или в магазин, или на рынок. Нет, не подняли, не послали. Хорошо-то как...
Лишь в десятом часу, закончив печатать, мама сказала:
— Вставай, все равно уже не спишь. Мы с Варей уходим, у нас масса дел... Картошка на сковороде, молоко в кухне на подоконнике...
— Угу...
— Поешь, а потом разбери и разложи по экземплярам последние листы, я все напечатала.
— Ага...
— Не “угу” и не “ага”, а вставай... Отнесешь работу Арсению Викторовичу. Не тяни, он просил поскорее...
Мама с Варей ушли. Толик побрякал умывальником, смочил глаза и нос. Поковырял вилкой жареную картошку. Есть не хотелось, под желудком тяжелым комком шевелилась тошнота.
Толик побрел к столу с машинкой. Здесь лежали последние страницы повести, штук тридцать. Толик брал сложенные вместе три листа, прочитывал верхнюю страницу, убирал копирку и раскладывал листы по трем папкам.
Он зачитался и забыл про боль в горле и тошноту.
...“Надежда” вернулась в Кронштадт, где уже стояла пришедшая двумя неделями раньше “Нева”... Пробежали годы... Вышли книги о первом плавании россиян вокруг земного шара. Вышел знаменитый “Атлас Южного моря”, составленный Крузенштерном. Другие русские капитаны уже не единожды совершали кругосветные плавания. Однако первые — всегда первые, им особая слава и честь. Эта слава до конца дней будет с Крузенштерном.
Но слава — она как блеск парадных эполет, более заметна другим, чем самому. А для самого человека важнее славы память.
В памяти же кроме побед и подвигов — горькие ошибки и утраты. Есть ошибки, в которых никто не усмотрит вину капитана. Но не будет и оправдания, потому что он не может оправдать себя сам. Да и надо ли оправдываться? Что было, то было. Он не привык прятаться ни от опасностей, ни от чужих упреков, ни от собственной совести.
А в памяти — острова. Тенериф и Святая Екатерина, Нукагива и легендарный, так и не найденный (но столько раз словно виденный наяву) Огива-потто... Гавайи, Япония, Курилы, Сахалин... И остров Святой Елены, где на маленьком кладбище камень с непривычными для местных жителей русскими буквами. Самая горькая память, самый тяжелый упрек.
Ну, а разве он, капитан Крузенштерн, мог знать, что все так кончится? Разве не пытался утешить и успокоить второго лейтенанта “Надежды”?
“Вы все-таки оправдываетесь, господин капитан-лейтенант... господин контр-адмирал! Зачем?”
“Я не оправдываюсь. Я просто до сих пор не могу понять причину...”
Острова — как люди. Люди — как острова. Мало увидеть остров в океане и обозначить его координаты. Надо знать, что в его глубине. Надо изучать долго и старательно. Лишь тогда можно сказать: открыл.
А всегда ли есть на это время? Мир велик, путь далек, и ветер гонит корабли мимо новых островов. Зачем? Так ли уж важно обойти вокруг света? Не важнее ли один-единственный остров изучить до конца? А то получится как с Сахалином: до сих пор в глубине души гложет сомнение — есть там песчаный перешеек или нет его?
Это потом узнают в точности другие капитаны. А он? Ему уже не водить корабли. Седеет голова, болят глаза, тяжкими перебоями заходится иногда сердце... Особенно как сегодня... О чем печалиться, разве мало плавал? Но порою приходит тоска по туго надутым парусам — белым с голубыми отблесками от синевы южного моря и неба. И по штормовому свисту в такелаже.
И, несмотря на все горечи и ошибки, вновь зовут к себе дальние острова — те, что встают из-за горизонта острыми утесами, вырастают на глазах и плывут, плывут навстречу...
Нет, все это позади. Другие теперь заботы. И другой у него “корабль” — вот этот корпус, где полтысячи мальчишек готовятся стать новой славой Российского флота. Каждый из них — словно остров неразгаданный. Не пройти бы мимо, не просмотреть, не ошибиться. Чтобы не случилось беды... И чтобы не болела потом душа, как болит сегодня из-за Егора Алабышева, который получил нынче первый горький урок несправедливости и боли.
Малыш... Как он сказал о Фогте: “Да! Вызову”.
“Дуэлями фогтов не уничтожишь, Егорушка. Их много... Они крепко напустили себе в штаны два года назад, когда мятежные офицеры вывели на Сенатскую площадь свои полки и гвардейский флотский экипаж, но быстро эти фогты осмелели опять. Повстанцами — храбрыми и чистыми душою людьми — будет потом гордиться Россия, однако они не добились пользы. Кто же добьется? И что надо делать?.. Я не знаю. Может быть, Егор Алабышев будет знать, когда вырастет? Или не он, а только внуки его?
В одном я уверен: вырастет Егор Алабышев смелым и честным человеком. И добрым. Никогда никого не предаст. Будет опорою многим людям и защитником своей стране. Для того я здесь. И на то положу свои силы.
Расти, мальчик. У тебя свои острова...”
Толик закончил главу — это были страницы, которые в июне читал ему Курганов. Но это был еще не конец. На следующем листе увидел Толик слово “Эпилог”.
Толик прочитал начало эпилога, удивляясь, что речь идет совсем о других временах и людях. Нетерпеливо отложил прочитанный лист, снял со второго экземпляра копирку... и обомлел.
Бумага была чистой. Зато изнанка отложенного листа чернела отпечатанными строчками! Перевернутыми, как в зеркале... Значит, вчера он разложил копирку не той стороной! О, идиот!
Так уже случилось однажды, но тогда мама это быстро заметила. А сегодня торопилась, и вот...
Ох, что будет! Во-первых, от мамы влетит (и правильно, так ему и надо!). Во-вторых, мама сказала, что придет только вечером; когда же Арсений Викторович получит конец повести? Ведь копирка-то у всех листов перевернута, до самого конца!
Сколько их до конца-то?.. Ой, полтора десятка! Для мамы — почти три часа работы...
Вот уж правда: если пошли несчастья, то одно за другим.
Но ведь он же вчера решил не поддаваться. И щит прибил к стене с такой силой... Пятнадцать страниц перепечатать — это, конечно, нелегкая работа. Он не умеет быстро, как мама. Но... ведь впереди целый день. Лишь бы успеть до маминого прихода и не наделать ошибок...
Нет, он стучал на машинке не так уж медленно. Каждая буква отдавалась в голове болезненным толчком, а в горле словно засел шероховатый кубик (сколько ни глотай — не исчезает), и все же Толик печатал с увлечением: он одновременно и дочитывал повесть. Он специально не разрешил себе читать в обгон перепечатанных строчек, чтобы не терять потом интереса. И пальцы, торопясь за словами, метались по трескучим кнопкам все быстрее...
К пяти часам он кончил. Посидел, опустив руки.
Исправил карандашом на последней странице ошибки...
Перечитал последние строчки. Было грустно, потому что конец повести оказался суровым. Но в суровости была гордость — оттого, что есть сильные и бесстрашные люди... И в печали у Толика не было тоски, а было упрямство.
Он опять постарался проглотить деревянный кубик. Толчком поднялся со стула. Готовые листы разложил по трем папкам. А испорченные... Улыбнувшись, он отодвинул в подставке “Ундервуда” тугую планку, согнул листы пополам и сунул в щель. Когда-нибудь он достанет их и покажет маме: “Смотри, что получилось. И допечатал я “Острова в океане” сам...”
Сейчас надо отнести конец повести Арсению Викторовичу. Но сначала — полежать. Недолго, минут пятнадцать. Чтобы ноги стали не такие вялые, а в голове так не стреляло. А то прикроешь глаза, и по векам скачут черные мячики и лопаются с оранжевыми вспышками. Словно круглые орудийные бомбы на севастопольских бастионах, только беззвучно, как в немом кино...
Пришла мама, тронула Толькин лоб, ахнула.
— Я сейчас, — пробормотал он. — Я быстро встану...
— Варя, дай градусник!
Ничего страшного не случилось. Ни дифтерита, ни воспаления, ни тифа, ни даже кори... Температура держалась два дня, а потом болезнь пропала, словно и не было ее.
Ольга Сергеевна, знакомый врач из детской поликлиники, приходила дважды. Во второй раз она сказала:
— Перекупался, перегрелся. Такое с мальчишками бывает. А возможно, еще и перенервничал из-за чего-то. Было?
— Кажется, не было, — с сомнением отозвалась мама. И посмотрела на Толика. Он молчал.
Когда Ольга Сергеевна ушла, Толик сказал:
— Ой, а повесть-то надо отнести Арсению Викторовичу!
— Здрасте! Я еще вчера отнесла.
— Три экземпляра?
— Как ты надоел мне с этим третьим экземпляром! Я тебе сказала: разбирайся с ним сам. Вот поправишься — и неси.
— Я уже поправился!
Но мама на всякий случай еще два дня держала его дома.
Нет, не считал Толик большим грехом, что вместо двух экземпляров повести получилось три. И когда шел к Арсению Викторовичу, успокаивал себя: “Что тут плохого? Я же отдам и все объясню...” Но объяснять-то придется про обман. А даже самый маленький обман — все равно свинство. Все равно за него стыдно. Особенно сейчас, когда всякую свою вину Толик почему-то связывает с тем случаем. С проклятым самолетом без крыльев... Будто все, что он, Толик, делает плохого, валится в одну большую черную копилку. И даже то, что никогда не делал. То, что было давным-давно... Думаешь о “Надежде” и острове Святой Елены, а в какие-то щелки лезут мысли о самолете...
И Толик даже не удивился, когда встретил на своем пути, в квартале от дома Курганова, робингудов. Это было как бы продолжение его мыслей.
Робингуды шли шеренгой. По всей ширине крепкого дощатого тротуара. У Толика на секунду радостно затеплело сердце. Будто ничего не случилось! Будто он спешит к своим робингудам и повстречал их так удачно, и все сейчас будет хорошо.
Но тут же увидел он прищуренные глаза Наклонова, ухмылки Мишки и Семена, ехидное лицо Люськи. И Рафика, глядевшего с каким-то охотничьим любопытством (или показалось?).
Витька смотрел виновато и напряженно. А Шурка — тот вообще не глядел на Толика: потупился и водил ботинком по доскам, когда вся шеренга остановилась.
Толик тоже остановился. Не пробиваться же через робингудовский строй! Это будет уже драка. А обходить их по канаве с застоявшейся зеленой жижей или лезть голыми ногами в чертополох у забора — противно и унизительно.
Олег сказал холодно и лениво:
— А, Липкин...
— Почему Липкин? — хмуро спросил Толик.
— А кто же ты? Когда мы тебя первый раз поймали, ты что сказал с перепугу? “Я Липкин...” И сейчас такой же, опять с папочкой идешь.
— А вы опять думаете, что в ней секретные сведения про вас, — не удержался Толик, хотя и понимал: дразнить бывших друзей опасно.
— Нет, не думаем, — сказал Наклонов. — Из тебя даже и шпион не получится. Для этого тоже смелость нужна...
— А из тебя она вся вытекла, когда ты трусы замочил в самолете, — закончил Семен и гоготнул.
У Толика в глазах защипало от стыда и бессильной злости. Но он постарался остаться спокойным. Это все, что он сейчас мог.
— Зато вы храбрые, — сказал Толик. — Шестеро на одного.
— На тебя, что ли? — искренне удивился Олег. — Кому ты нужен? Пожалуйста, гражданин Липкин, идите своей дорогой. — Он сделал плавный жест, и шеренга расступилась. Встали в два ряда по краям тротуара.
И Толик, закусив губу и глядя перед собой, прошел сквозь строй.
Он был уже в пяти шагах от робингудов, когда услышал тонкий Шуркин голос:
— Толик, а ты разве не к нам шел?
— Цыц! — тут же сказала Шурке Люська. Но Толик уже обернулся. Со смесью обиды, стыда и... надежды.
— Я?.. К вам?
Олег с кротким зевком проговорил:
— Вообще-то, если ты придешь, мы можем рассмотреть твой вопрос.
— Ага... — ухмыльнулся Мишка Гельман. — Только пускай клятву даст больше не дрейфить и не подводить. Как Шурка...
— Клятву? Это, что ли, с кирпичом над макушкой? — понимая, что все кончено, сказал Толик. — Много хотите. Я к вам в рабы не записывался.
— Ну и гарцуй отсюда, — подвел итог Олег.
Толик сделал равнодушно-презрительное лицо и пошел, не оглядываясь. И прижимал к боку изо всех сил папку.
Сзади вдруг по-разбойничьи свистнули (видимо, Семен: он только и умел одно делать хорошо — свистеть вот так). Толик вздрогнул в душе, но не оглянулся, не ускорил шага.
Арсений Викторович долго не открывал. Постучав третий раз, Толик с огорчением решил, что Курганова нет дома. И лишь тогда услышал за дверью шаркающие шаги.
Курганов показался Толику больным. Был он в свитере и шлепанцах из обрезанных валенок. С помятым лицом и сумрачно-рассеянными глазами.
— А, Толик Нечаев... — сказал Курганов странно, с медленным вздохом. — Заходи. Я недавно про тебя думал.
Толик встревожился. Сперва решил даже, что Курганов опять выпил. Но нет, запаха не ощущалось нисколечко.
Настроение Курганова было непонятное, и Толик не решился сразу говорить о третьем экземпляре. Он оставил его в сенях — незаметно сунул за кадушку у дверей. И сразу подумал, что это глупо: Арсений Викторович мог заметить папку, еще когда отпирал дверь. Теперь спросит: “Что ты мне принес?”
Нет, ничего он не спросил. Кивнул на табурет:
— Садись... — И сам тяжело сел на заскрипевшую кровать.
В непонятно-беспокойном молчании Толик оглядывал комнату. Все было как раньше: солнечно, просторно. Смотрел со стены Крузенштерн, привычно стучал хронометр. И все же чувствовалось что-то неуютное. Толик скоро понял что! Пахло остывшими углями и золой. И точно — в камине чернели головешки и светлел серый пепел. Из-под пепла блестело стеклянное донышко. Наверно, Курганов не спал ночь, сидел у огня. Может, не давали покоя всякие мысли? О дочери Лене вспоминал, которая не пишет? Или разные тяжелые случаи из своей жизни? Толик догадывался, что случаев таких было немало.
Словно услыхав мысли Толика, Курганов сказал глуховато:
— Ты на меня не обращай внимания, сегодня я такой... невыспавшийся и хворый. Видно, стариковская бессонница...
— Я понимаю, — кивнул Толик. Догадка его оказалась правильной, и от этого тревога за Курганова сделалась меньше.
— Что ты понимаешь? — ласково и грустно улыбнулся Курганов.
— Ну, когда не спится и мысли разные... Как колючая проволока в голове.
— Господи, а у тебя-то с чего? — тихо сказал Арсений Викторович.
— А из-за всего... Это трудно... Я не знаю, как сказать.
— А ты скажи, как получится. Как думаешь...
— Но... я думаю совсем глупо, — жалобно усмехнулся Толик.
Курганов молчал.
— Ну, совсем глупо, — прошептал Толик. — Мне такое кажется... Будто я виноват, что Головачев застрелился.
Курганов мигнул. Нахмурился. Потискал подбородок.
— Это не глупо. Так бывает... Может быть, ты и в самом деле в чем-то виноват?
— Ну... в чем-то, наверно... — насупленно признался Толик (раз уж пришло время признаваться!) — А Головачев-то при чем?
— Кто знает... Может быть, твоя вина похожа на его вину?
— На его вину? А разве он виноват?
— А разве нет? Ты подумай. И про него, и... про себя.
— Я и так все время думаю, — пробормотал Толик. — Я запутался. Можно, я расскажу?
Курганов кивнул. И Толик рассказал все, что с ним случилось в походе и потом. Иногда он просто давился от стыда и замолкал. Курганов не торопил. И было слышно, как тикает хронометр. От его уверенного стука делалось легче, и Толик продолжал. И проговорил в конце концов:
— Ну вот, видите... до чего я докатился...
Курганов опять потискал желтыми пальцами подбородок.
— Не буду я тебя успокаивать. Ты виноват, сам это знаешь... Но ты скорее перед собой виноват, чем перед ребятами.
— Почему?
— Потому что робингуды твои тебя не удерживали. Никто ведь не говорил: “Оставайся, нам с тобой будет лучше”. Верно?
— Олег сказал. “Кто хочет, пусть идет...”
— Ты и ушел...
Толик выдавил, запинаясь от беспощадности к себе:
— Да... Но я же не потому, что он сказал... Я... потому что я струсил.
Курганов обошел Толика, встал сзади. Большую ладонь положил ему на темя.
— Не только поэтому... Потому, что ты был один.
— Один? — Толик удивленно шевельнулся.
— Конечно. Между ребятами и тобой трещина прошла... Как у Головачева между ним и другими моряками. Видишь, он тоже... ушел. Ты — домой, а он — насовсем.
— Но он же не из-за трусости. Из-за обиды. Вообще... из-за горя своего.
— А другим он своей смертью сколько горя принес! Товарищам своим, родителям, братьям... Ты спрашивал: в чем его вина? Вот в этом. В том, что он сделал непоправимое... Ты, Толик, запомни одно: самая страшная беда, когда человек делает непоправимое. Такое, что уже не исправишь. Этого надо бояться больше всего... Понял?
Толик не знал, понял ли. Насчет непоправимого, кажется, понял. А насчет Головачева и себя?.. Что у них одинакового? Что сделал он такого, чего совсем нельзя исправить? Может, Курганов считает, что он, Толик, законченный трус и дезертир?
Толик так и спросил горьким и стыдливым полушепотом:
— Значит, я... совсем?
Рука Курганова дернулась, он отозвался почти испуганно:
— Да что ты, малыш! У тебя все поправимо.
— Как поправимо? — вздохнул Толик. — Мне к робингудам теперь все равно дороги нет...
— Я не про это. Я про характер. Ты, по-моему, трусить больше никогда не будешь, у тебя теперь зарубка на характере.
— Я не знаю, — опять вздохнул Толик.
— А я знаю, — возразил Курганов и отошел к столу... — Я в тебя, Толик, верю. Недаром ты такие славные стихи написал... Я вот оставил тебе на память...
С верхней полки он взял листок, протянул Толику. Толик встал с табурета. Лист был началом повести — первая страница первого экземпляра.
— А... как же вы без него? Разве вам не надо?
— Мне уже ничего не надо, — глухо сказал Курганов и отвернулся к окну. — Сжег я все к чертям...
— Зачем?! — выдохнул Толик.
Спина Курганова сердито дернулась под обвисшим свитером.
— Потому что прочел перепечатанное свежими глазами. И понял: все чушь и мура... Кроме твоих стихов... Ну и вот...
Толик посмотрел на камин. На пепел и угли.
— Оба экземпляра сожгли? — шепотом спросил он.
— Да! И черновик! — раздраженно ответил Курганов. — Чтобы больше не мучиться... Зачем оно, беспомощное бумагомарание? Бред!
— Не бред! Это хорошая повесть!
— Чушь...
— Нет, хорошая. Зачем вы...
Курганов сел к столу, охватил голову растопыренными ладонями. Тихо сказал:
— Хорошая, плохая... Теперь, слава богу, никто решать не будет. Нету “Островов в океане”.
Толик смотрел сумрачно и строго.
— Вы теперь сами жалеете, что сожгли...
— Да, — неожиданно обмякнув, согласился Курганов. — Жалею. Столько лет потратил. Смысл в этом видел... И вот — ударило в башку. Тоже, безумный гений нашелся! Николай Васильевич Гоголь... Но все равно правильно. Она бы меня не отпустила, эта писанина, измучила бы до смерти. А я уже не могу...
— А без нее... можете? — спросил Толик негромко, но жестко.
Курганов посмотрел на него исподлобья. Блестящие голубые глазки его тонули в морщинистых впадинах. Он сказал с беззащитностью:
— Ты меня будто добить хочешь. Толик, ты зачем так?
— А вы зачем так? Сами говорите, что нельзя делать непоправимое! А что сделали? Все равно что в себя выстрелили!.. Как бы вы жили, если б не остался третий экземпляр?
Курганов некрасиво приоткрыл рот и, грудью ложась на стол, весь потянулся к Толику. Молча. А в глазах — тоска и просьба о чуде. Обжегшись этим взглядом, ужаснувшись — “Что же я его мучаю?!” — Толик метнулся в сени и ворвался в комнату с папкой. Курганов потянул к ней похожие на грабли пальцы, и лицо его умоляло: только не обмани... Но Толик отшатнулся.
— Нет! Сначала дайте честное слово, самое страшное... что не сожжете больше. Поклянитесь чем-нибудь...
Курганов с облегчением уронил на стол руки.
— Чем хочешь.
— Жизнью своей, — жалобно попросил Толик.
Курганов сказал, слабо улыбаясь:
— Толик... мне моя жизнь — что! Я твоей клянусь, если веришь: никогда не сожгу.
Толик положил папку на край стола. Курганов дотянулся, оборвал тесемки, стал лихорадочно перекидывать листы. Уронил их, медленно вздохнул, уперся в стол руками. Согнувшись, смотрел на Толика. Лицо Арсения Викторовича, пожалуй, не было счастливым. Оно было серьезно-торжественным:
— Феникс... — проговорил он.
— Что? — растерянно пробормотал Толик.
— Птица Феникс. Она сгорает, а потом возрождается из пепла. Живая. Слышал такую легенду?
— Не... — сказал Толик. — Арсений Викторович, вы теперь берегите повесть. Единственный экземпляр ведь.
— Обещаю... А правду я говорил: Толик Нечаев приносит мне счастье... — Наверно, хотел Курганов улыбнуться, но лицо скомкалось, он закрыл его ладонями и быстро сел.
Толик впервые увидел, как плачет взрослый мужчина.
— Я пойду, — тихонько сказал он.