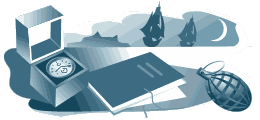Есть остров на том океане...
Скоро Толик убедился, что и в замечательной жизни без тревог не обойтись. Бывают, конечно, совсем беззаботные дни, но потом все равно что-нибудь случится... Все оставалось по-прежнему, только глаза у мамы были теперь невеселые.
Нет, мама не сердилась на Толика, не срывала на нем досаду, как бывало при мелких неприятностях. Наоборот, ласковая была. Но какая-то слишком рассеянная. Даже не спросила ни разу, сказал ли Толик Арсению Викторовичу о фокусе с третьим экземпляром (а он, кстати, все еще не сказал).
Толик всегда чуял, если маме плохо. И сейчас он смотрел на нее с беспокойством, но спросить, что случилось, не решался. Во-первых, мама обязательно скажет: все в порядке, не выдумывай. Во-вторых, Толик чувствовал, что расспросы ее еще больше расстроят, а беде не помогут. Но все-таки, что за беда?
Толик решил взяться за Варю. Ей-то все известно. Недаром они с мамой опять, как весной, шепчутся, будто подружки.
Варя сперва уперлась: ничего не знаю, отвяжись. Но тут уж он вцепился в нее мертвой хваткой. Варя повздыхала, пооглядывалась, взяла с Толика страшную клятву молчать и рассказала.
Мама ходила такая расстроенная из-за Дмитрия Ивановича. У того нашлись жена и дочка. На Украине. Как нашлись? А вот так. Он думал, что они убиты в Киеве при бомбежке, но они уцелели. Выжили и потом, когда в Киеве были немцы. А в начале сорок пятого, после запроса о Дмитрии Ивановиче, получили извещение, что он пропал без вести... Теперь вот они отыскались и он отыскался. Скоро поедет в Киев.
Конечно, тут радоваться надо. И конечно, мама радуется, что такое у Дмитрия Ивановича счастье. Но...
— В общем, все так в жизни запутано, — вздохнула Варя. — И радость, и печаль... Ты ведь большой уж, понимаешь.
Толик был, конечно, большой, но сейчас приткнулся к Варе, как маленький, чувствуя и грусть и облегчение оттого, что кончилась неизвестность. Жаль, разумеется, что Дмитрий Иванович не будет с ними, но раз уж так вышло, то пусть... Проживут они и втроем: Толик, мама и Варя.
Он прилег Варе на плечо, посчитал на ее подбородке редкие и светлые, как у мамы, веснушки. Сказал шепотом:
— Варь, а ты папу хорошо помнишь?
— Конечно. Я же тебе рассказывала...
— Ага... Варь, а вдруг на него похоронка тоже ошибочная?
Варя молча погладила его по голове. Толик и сам понимал, что на чудо надежды нет. Красноармейцы писали, что политрук Нечаев погиб у них на глазах: мина разорвалась точно в том месте, где за полсекунды до этого видели политрука...
— Варь, а Дмитрий Иванович насовсем уедет?
— Наверно...
— Ну ладно... Ты попроси маму, чтобы так не горевала, нельзя же из-за этого всю жизнь себя изводить.
— Всю жизнь она не будет, — серьезно пообещала Варя.
И правда, через пару дней мама была уже почти такой, как прежде. Вечером она устроила Толику нагоняй за то, что лезет в постель с немытыми ногами, а утром — еще один: за то, что положил между листами копирку не той стороной:
— Разиня! Я могла испортить два десятка страниц!.. Кстати, ты сказал Арсению Викторовичу про третий экземпляр?
— Я заходил, а его дома нет...
— Целыми днями нет дома? Ох, займусь я тобой...
Толик порадовался маминому бодрому настроению и подмигнул Варе. А она ему. Тогда Толик отозвал Варю в коридор и веселым шепотом предложил:
— Знаешь что? Женилась бы ты скорее. То есть это, выходила бы замуж. Вот и будет мужчина в доме.
— Долго думал? — спросила Варя.
— Ага. Вчера целый вечер.
— Хорошо. Иди-ка сюда... — Варя сняла с гвоздя самодельную мухобойку из деревяшки и подошвы. Толик захохотал и ускакал во двор. Там его нашел Витя Ярцев, который появился со срочным известием.
Известие было такое: к Рафику из Казани приехал дядюшка, привез в подарок масляные краски, во-от такую коробку. Рафик на радостях пообещал всем нарисовать новые рыцарские гербы. Старые совсем пооблиняли, а у Толика и вообще никакого нет.
— Олег велел, чтобы ты придумал скорее, какой тебе надо...
Толик давно уже придумал, но стеснялся спросить Олега, можно ли сделать себе щит с эмблемой.
Щиты с гербами были у всех, кроме Толика. У Олега — скрещенные факел и меч на темно-синем фоне. У Мишки Гельмана — оранжевый щит, а на нем черно-белая мишень с перекрестьем. У Семена — крепостная башня на клетчатом фоне — что-то шахматное, хотя насчет шахмат он был ни в зуб ногой. У Вити: луна и солнце на черно-синем щите. Рафик нарисовал себе почему-то гибкого олененка из цветного мультипликационного фильма “Бэмби”. Олененок, выгнувшись, летел над пушистыми деревьями. Это был совсем не грозный герб, но самый красивый. У Люси на черном щите желтела комета с хвостом, похожим на растрепанную косу.
Даже у Шурки был щит — с голубыми и темно-синими полосками наискосок и желтыми буквами А. Р. — Александр Ревский. Шурка хотел что-нибудь боевое, но Олег не разрешил:
— Хватит пока и этого. Ты хотя и Александр, но Ревский, а не Невский...
Толик придумал себе, конечно, щит с якорем. А с чем же еще? Щит — синий, как море, якорь желтый, как начищенная корабельная медь, а в нем — черная буква Т. Она так хорошо врисовывается в якорное тело с перекладинкой.
— А теперь нарисуй звездочку, — попросил Рафика Толик и ткнул в верхний угол щита. — Красной краской. Маленькую...
Он насупился, ожидая, что Рафик спросит: зачем?
Но Рафик молча нарисовал. Маленькую и темно-красную. Как та суконная звездочка на шерстяном рукаве гимнастерки...
Олег сказал:
— Ты не забудь себе и меч сделать. Скоро начнем тренировки по фехтованию. Я книжку достал, там всякие приемы описаны...
— Я уже сделал, — признался Толик.
Новый герб прибили рядом с остальными. Олег похлопал по картону, потом по спине Толика:
— Твой щит на вратах Цареграда...
— Он всего “Вещего Олега” знает наизусть, — гордясь командиром, сказал Шурка. — И вообще все стихи Пушкина.
— Болтун ты, Шурка, — снисходительно отозвался Олег. — Кто же всего Пушкина может выучить?.. Я, конечно, знаю кое-что, но не так уж много. И вообще я больше люблю Лермонтова. Я его “Воздушный корабль” буду на концерте читать.
Оказалось, что, пока Толик выяснял семейные дела, робингуды затеяли новое дело. Решили дать концерт для окрестных жителей. Олег напомнил, что надо не только свистать по улицам, но и о пользе людей думать.
В саду, где ребята много раз играли в партизан и в пряталки, была концертная площадка. В давние годы здесь выступал оркестр, а во время войны сад заглох, и теперь до него еще ни у кого не доходили руки. Часть эстрады и многие скамейки растащили на дрова, но настил сцены чудом сохранился и даже не очень прогнил. Олег сказал, что для робингудовского концерта сгодится, артисты легкие. Главное не сцена, а репертуар.
— Что? — удивился непонятному слову Семен.
— Номера всякие... У тебя ведь есть баян?
— Он умеет на баяне только “Раскинулось море широко” играть, — сказала Люся.
— Ну и сойдет. А Витька споет.
— Лучше уж я без баяна спою, — скромно сказал Витя. — А то он как загудит, я и собьюсь.
— Ладно, Семен отдельно выступит, и ты отдельно... А еще надо пьесу поставить, я в “Затейнике” поищу...
“Затейник” — это журнал, где печатаются всякие игры, стихи, описания танцев и пьесы для школьных спектаклей. У Олега была целая пачка “Затейников”. Но подходящей пьесы там не нашлось. Попадались то слишком скучные, без приключений, то длинные и такие, где требовалось много девочек. А у робингудов — одна Люся.
— Ладно, что-нибудь придумаем, — пообещал Олег.
Через два дня собрались на веранде, и Олег вытащил из кармана мятую тетрадку.
— Вот... я сейчас прочитаю. В общем, это пьеса...
Толик впервые увидел, что Олег смущается и, кажется, даже побаивается. Витя сказал Толику уважительным шепотом:
— Это он сам сочинил.
Пьеса называлась “Случай на границе” и была про то, как находчивые мальчишки из пограничного поселка отправились в лес и наткнулись на диверсанта. Пока двое ребят хитростями удерживали нарушителя на месте, третий помчался на заставу. Но опытный шпион догадался о ловушке, и ребятам пришлось вступить в схватку. Пограничники — офицер и солдат — подоспели в последний момент, когда вовсю кипел бой.
Пьеса всем понравилась. Правда, Толику показалось, что где-то он уже читал или слышал по радио что-то похожее. Но что поделаешь, про шпионов полным-полно всяких книжек, спектаклей и кино. Поневоле получаются совпадения. И Олег же не списывал откуда-то, а сочинил своими словами.
Когда стихли похвалы, Олег, розовый от писательского счастья, стал распределять роли. Шпионом он назначил Семена, в ребячью компанию — Рафика, Витю и Толика. Солдатом-пограничником сделал Мишку, а командиром, разумеется, себя. Для этой роли у Олега и костюм подходящий, оказывается, был: гимнастерка, галифе и фуражка. Военную форму ему сшили весной для участия в школьном празднике “День Победы”.
Люсе и Шурке ролей не досталось, но Олег сказал, что у Люси и так много забот: объявлять все номера концерта и заведовать театральным имуществом. А Шурке придется отвечать за звуковое оформление. Во время схватки со шпионом он должен уронить груду ящиков — это будет изображать разрыв гранаты. А в самом конце спектакля Шурка включит патефон с пластинкой “Торжественный марш”...
— Если не уронит ящики на патефон или не сядет на пластинку, — заметил Мишка. Олег его одернул и сообщил, что на Шурку он надеется: робингуд Ревский за последнее время заметно подтянулся...
Репетировать начали тут же, на веранде. Слова запомнили быстро, их не так уж много было. Главное — не в словах, а в той сцене, когда мальчишки дерутся со шпионом, выхватывают у него пистолет, а он швыряет в них гранату. Нужно было отработать все приемы.
Отрабатывали два часа подряд. Мама Олега выглядывала из-за двери и покачивала головой. Люся держала наготове медную крышку от самовара: чтобы прикладывать к шишкам и синякам. Дважды она мазала йодом на актерах нешуточные ссадины... Шурка изображал гранатные взрывы — вдохновенно швырял на пол фанерный лист.
Рафик наконец сказал:
— Ты поосторожней с фанерой-то. Мне на ней афишу рисовать.
Афишу Рафик лихо намалевал масляными красками: белой, красной и синей. Она сообщала, что 20 июля 1948 года в саду на Ямской улице тимуровский отряд “Красные робингуды” даст для местных жителей пионерский концерт.
Лучше всего на афише получился клоун: с белой смеющейся рожей, с красными волосами, в клетчатых штанах и громадных ботинках. В программе концерта никакого клоуна не было, и Шурка робко заметил, что получается обман. Олег возразил:
— Клоун просто означает, что концерт будет веселый.
И все согласились.
Но, по правде говоря, веселья в концерте не ожидалось. Схватка со шпионом — дело опасное, что же тут смешного? Остальные номера тоже серьезные. Музыка “Раскинулось море широко”, Витькины песни про пограничника и крейсер “Варяг”, стихи про юного героя Ваню Андрианова, которые взялась прочитать Люся. Шурка тоже вызвался читать героические стихи — про Севастопольский камень. И надо сказать, читал неплохо. Может, слишком тонким голосом, но с выражением.
Но лучше всех декламировал, конечно, Олег:
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.
Олег читал эти стихи каждый раз в конце репетиции. Робингуды рассаживались по углам пустой веранды, Олег выходил на середину, секунды две стоял молча, потом откидывал волосы, смотрел поверх голов и говорил первую строчку негромко, задумчиво, будто сам с собой разговаривал. Потом голос его звучал крепче, но оставался печальным.
Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.
Стихи были длинные, но каждый раз слушали их внимательно, не дышали громко и не ворочались. Лишь однажды Мишка Гельман отсидел ногу и шумно зашевелился. Люся на него цыкнула. Олег оборвал чтение. Толик сказал:
— Ну, тихо вы. Дайте дослушать.
Мишка огрызнулся, потирая колено:
— Чего про него десять раз слушать? Все равно он был враг.
— Кто? — удивился Семен.
— “Кто”! Наполеон!
— Разве это про Наполеона стихи? — не поверил Семен. — Ты чего врешь-то?
Мишка, услыхав такое невежество, невоспитанно плюнул.
— Это же все равно будто сказка, — заступилась за стихи Люся. — Про волшебный корабль.
— А Наполеон тогда уже и не враг был, — сказал Олег. — Он пленный был. Пленные врагами не бывают.
— Ага, “не бывают”! Он Москву сжег, — сказал Мишка. — Может, вы и с Гитлером целоваться стали бы, если война кончилась?
— Дурак ты! — сказала Люся.
Шурка повозил ботинками по полу и неуверенно проговорил:
— Наполеон все-таки не Гитлер. Он, конечно, враг был, но все-таки не такой. Он благородный был...
— Сам ты благородный, — хмыкнул Мишка. — Попал бы ты к нему в лапы...
— Ну и попал бы, — отозвался Шурка. — Тогда пленных не пытали и не расстреливали, потому что война была по правилам.
— Тоже расстреливали, я книжку читал, — сказал Витя. — Но все-таки не так сильно. Тогда фашистов не было.
Рафик вставил свое слово:
— Если бы Наполеон был совсем уж враг, тогда про него стихи не печатали бы...
— Да тут дело не в Наполеоне, — сказал Толик.
— А в чем? — оживился Олег. Ему нужна была поддержка.
Толик засмущался и вздохнул:
— Я не знаю, как объяснить словами... При чем тут Наполеон? Это стихи про одинокое настроение, когда человека все бросили. Потому что остров такой...
— Какой? — спросил Рафик.
— Это же остров Святой Елены. Он вообще печальный... На нем наш моряк, лейтенант Головачев, тоже погиб. Там его могила...
— Разве наши на том острове воевали? — удивился Мишка.
— Да не воевали... Это давно было, когда Крузенштерн плавал.
— А почему он погиб? — спросил Шурка. — Дикари убили?
— Да не было там дикарей, что ты!.. Он сам застрелился...
— Почему? — У Шурки жалобно приоткрылся рот.
— Я еще не знаю точно, я не дочитал. Но, по-моему, тоже от этого... от одиночества.
— А какая это книжка? — спросил Олег. — Дашь почитать?
Толик устоял перед соблазном: не стал рассказывать о Курганове и его повести. Не знал, имеет ли право. Он только объяснил, что мама перепечатывает для редакции одну рукопись и дает ему почитать. Когда он все прочитает — пожалуйста, расскажет подробно. А пока... если, конечно, они хотят... он может прочитать свои стихи про плавание, про Крузенштерна.
Как это у него вырвалось? Отчего? Может, оттого, что вспомнились вечера у камина, тиканье хронометра, карта на стене и ощущение, будто совсем рядом, за окнами, море? Сейчас тоже был хороший вечер и рядом сидели друзья, и Толику захотелось разделить с ними настроение морской таинственности...
Но дело, наверно, не только в этом. Хотелось еще... нет, не похвастаться, а просто показать, что он не хуже других. Олег пьесу написал, а он, Толик, вот... тоже умеет...
А может, просто бес под язык толкнул. Так или иначе, слова сорвались, не поймаешь. Конечно, у Толика тут же заполыхали уши, да было поздно.
— Давай, выходи на середину, — велел Олег.
— Да нет, я здесь...
— Выходи, выходи. Чтобы как следует.
Ох, зачем он сболтнул? Хоть бы провалиться сквозь веранду. Толик жалобно сказал:
— Но они ведь не как у Лермонтова. Они... самодельные.
— Давай, давай, — сказал Олег.
Толик вышел, помигал, чтобы не так щипало в глазах от смущения, покашлял... ну и ничего, прочитал. Внятно и без торопливости. Потому что раз уж напросился, куда деваться?
Ребята помолчали, посмотрели друг на друга, и Люся неожиданно захлопала. Тогда и другие захлопали. И у Толика опять затеплели уши, а Олег сказал:
— Мы и не знали, что ты поэт.
— Да никакой я не поэт! — Это я случайно сочинил.
— И больше никогда ничего не писал? — удивился Олег.
— Никогда! — Про стихи о месяце Толик опасливо умолчал.
У Олега мелькнуло на лице то ли облегчение, то ли удовольствие. Но тут же опять он стал командиром:
— Эти стихи ты обязательно прочитаешь на концерте.
— Я?! — ужаснулся Толик.
— Конечно. Чего им пропадать?
— Но... это же не Лермонтов, — опять жалобно сказал Толик. — Как это будет? По сравнению с ним...
— Зато это твои собственные стихи. У нас так и называется — самодеятельность... В общем, это тебе боевое задание.
Толик успокоился. Если задание — никуда не денешься. Олег — командир, а Толик — рядовой робингуд.
— И еще, задание, — сказал Олег. — Попроси маму напечатать для концерта пригласительные билеты. Сто штук.
Мама сказала, что напечатать билеты Толик мог бы и сам: не маленький, знает, как управляться с машинкой.
— Да-а... А сколько я провожусь!
Мама смилостивилась и напечатала. И оставила два билета — себе и Варе:
— Посмотрим, что вы за артисты.
У Толика от волнения засосало в животе, как в начале первого экзамена. И привычно зачесался рубчик под коленом...
В день концерта мама выгладила Толику галстук и белую рубашку и достала из шкафа полузабытый вельветовый костюм. Лишь тогда Толик понял, что он и правда вырос за эту половину лета. Жилет еле прикрывал пряжку на поясе, а чтобы застегнуть под коленками манжеты штанов, пришлось изо всех сил натягивать их вниз. И тем не менее, глянувши в зеркало, Толик остался доволен. Он, как и раньше, показался себе похожим на юного капитана из жюль-верновской книжки. Тем более что волосы отросли, а лицо покрылось крепким, как густой чай, загаром.
От Дика Сэнда и Жюля Верна мысли скользнули к другим парусам, к Крузенштерну, к острову Святой Елены. К печальным стихам о воздушном корабле... К своим стихам.
Правильно ли, что он согласился их прочитать? Задание заданием, но можно было и упереться. Наверно, Олег не стал бы приказывать по всей строгости... И зачем Олег вообще такое задание дал? О концерте заботился? Или...
Впервые у Толика мелькнуло недоброе подозрение о командире робингудов. Олег пьесу сочинил, значит, считает себя немножко писателем. Его за такой талант стали еще больше уважать. И вдруг появляется еще один “писатель”. Вроде как соперник... И не нарочно ли Олег Наклонов Толика с его самодеятельными стихами выставляет рядом с собой? То есть с Лермонтовым, с “Воздушным кораблем”? Может, думает: “Пусть все увидят, что у Толика Нечаева стихи — просто детский лепет...”
Но... разве Олег такой? Разве он когда-нибудь кого-нибудь подводил? И Толик разозлился на себя. Особенно когда вспомнил ясное лицо Олега и то, как он красиво подымает голову и откидывает волосы, начиная читать “Воздушный корабль”...
...Он так и читал на концерте. И когда кончил, ему здорово хлопали. Шум стоял по всему саду, потому что на прогнивших скамейках перед эстрадой и прямо на лужайках собралось не меньше ста человек. Это и понятно: билеты робингуды побросали в домашние почтовые ящики на всех ближних улицах. Толик в глубине души это легкомыслие не одобрял. Он побаивался, что могут прийти и такие зрители, которые будут не смотреть и слушать, а свистеть и кукарекать, издеваться над артистами. Особенно если появятся пацаны с Ишимской во главе с известным второгодником и шпаной по кличке Баня... Однако Баня с компанией не явился, а пришли нормальные ребятишки из ближних кварталов. А еще — домохозяйки с мелюзгой-дошколятами. Было несколько тетенек, похожих на инспекторш гороно и два солдата-отпускника. И родственники артистов. В том числе и мама с Варей...
И вот теперь все хлопали Олегу за то, как он здорово прочитал печальные и смелые стихи...
А потом читал Толик.
Он понимал, что его стихам большого успеха ждать нечего, и словно отвечал урок: раз вызвали, надо рассказывать. Правда, когда Толик начал четвертый куплет (он сочинил его позже и на портрете не писал), голос вдруг зазвенел. И увидел Толик острые скалы в сумрачном море, и почему-то представилось, как у стоящих на неспокойном, взволнованном рейде кораблей качаются под реями скрипучие фонари...
Теперь Земля уже почти что вся открыта.
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый.
Но, может быть, одна откроется и мне...
Толику тоже хлопали хорошо. Однако он чувствовал: эти аплодисменты не за стихи, а просто за выступление, за старание. Из вежливости. На маму и на Варю он не смотрел. И еще раз порадовался, что нет здесь Курганова.
Мама перед концертом спросила:
— А разве Арсения Викторовича ты не пригласил?
Она и накануне напоминала: надо позвать. Но Толика холодом продирало по позвоночнику от одной мысли об этом. И тут уже дело не в простой стеснительности. Арсений Викторович мог обидеться: сперва Толик подарил стихи ему, Курганову, а теперь читает всем, направо-налево. Стихи эти стали частичкой книги, а книга-то не Толика, она Арсения Викторовича. Спросить разрешения? Но получится, будто просишь назад подарок.
На мамин вопрос Толик с перепугу ответил отчаянным и потому правдоподобным враньем:
— Ма-а! Я к нему десять раз заходил, а его все дома нету и нету!
После чтения стихов, криво кивнув публике, Толик бежал с подмостков и укрылся в кустах позади эстрады. Там готовились к пьесе участники спектакля. Олег натягивал офицерское обмундирование. Он сказал снисходительно:
— Ничего выступил. Вполне...
Толик не ответил. Он сел в траву и мысленно дал себе честное пионерское, честное робингудовское, честное морское и всякое-всякое честное слово никогда больше не писать стихов. Чтобы не страдать потом... А если стихи придумаются сами собой, никогда никому их не рассказывать.
А эпиграф к “Островам в океане” пускай остается, раз Курганову именно такие стихи нужны — от мальчишки, который мечтает о дальних морях, не от поэта.
Как хорошо, что Курганова не было на концерте!
“Но ведь все-таки тебе хотелось выступить! Что ты вертишься?” — мстительно укорила Толика совесть. И он покраснел.
Впрочем, для переживаний времени не было. Начался спектакль. Он прошел с неожиданным и громовым успехом, который затмил прежние номера, в том числе и стихи об острове Святой Елены. Заключительная схватка со шпионом потрясла зрителей своим драматизмом. Диверсант отбивался как зверь, пистолет его грохнул охотничьим капсюлем, будто настоящий маузер. А когда пришло время взрываться гранате, Шурка за сценой не прозевал и лихо обрушил гору пустых ящиков и ржавых ведер...
После концерта Шурка, посасывая палец (придавило ведром), снял артистов своим “фотокором”. И сам сфотографировался вместе со всеми: протянул от спуска нитку и дернул.
— Можно было бы сегодня сделать карточки, да нет проявителя, — пожаловался он.
Люся выдала ему пять рублей из собранных за концерт денег.
...Из-за этих денег у Толика с мамой вышел разговор.
— Концерт хороший, — сказала мама, — все мне там понравилось. Кроме одного. Зачем эта девочка (Люся, кажется?) сидела у входа и собирала с тех, кто пришел, по двадцать копеек? Двугривенный, конечно, не деньги, но как-то некрасиво...
По совести говоря, Толику и самому это не нравилось. Но маме Толик сказал то, что говорил ребятам Олег:
— Мы же трудились? Трудились. Значит, заработали. Эти деньги не на глупости пойдут, а для отряда. На проявитель для Шурки, на подготовку к походу.
— К какому еще походу? — сразу заволновалась мама.
— Да к небольшому, недалеко. На один день...