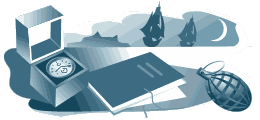Шторм в Скагерраке
Толик смотрел на Курганова, приоткрыв рот. Первый раз в жизни он видел писателя. Ну, пускай не знаменитого, но все равно писателя. Человека, который сам пишет книгу. Потом он тряхнул головой, рот захлопнул и уткнулся в стакан. Глянул исподлобья и сказал с почтеньем и сочувствием:
— Это, наверно, ужасно трудно.
— Ужасно трудно, — очень серьезно, даже печально согласился Курганов. — Сколько раз уже хотел все изодрать в клочки.
— Зачем? Не надо! — испугался Толик.
— Порой кажется, что все так отвратительно написано. Беспомощно... И посоветоваться не с кем. За три года ты первый человек, с кем я про Крузенштерна заговорил. Я и разболтался-то потому, что... как бы сказать... почуял общий интерес.
— Я люблю про море и про путешествия, — тихо сказал Толик.
— Вот и я люблю. И про путешествия, и про моряков... Удивительные они люди. Сам я тоже в детстве о морской службе мечтал, да не вышло.
Толик подумал.
— Арсений Викторович, знаете что? Если человек про моряков книжку пишет, он ведь и сам тоже как моряк.
Голубые глазки Курганова снова добродушно засветились.
— Да? Может быть... Но это, наверно, если хорошо пишет.
— А вы... много уже написали?
— Ну... повесть эта довольно большая получается. Но я ее уже почти кончаю. Сейчас кое-что переделываю, дополняю... Я ведь, Толик, давно с ней вожусь. И когда на Дальнем Востоке был, и там, под Выборгом. И в... на Севере когда работал... Тебе налить еще?
— Ага... то есть пожалуйста.
— Только вот пряники очень уж каменные.
— Ничего, я такие даже больше люблю. У меня зубы крепкие.
— А я свои почти все угробил за последние годы... — усмехнулся Курганов. И вдруг сказал другим голосом: — Толик...
Толик вопросительно вскинул глаза.
Курганов смотрел из-за кружки нерешительно и виновато.
— А если я попрошу тебя об одной услуге... А?
— Ладно... — неуверенно отозвался Толик. — О какой?
— Может быть, послушаешь у меня несколько страниц? Раз уж так получилось... Раз уж мы встретились так удачно. А?
— Конечно! — обрадовался Толик. По правде говоря, он этого немного ждал. Вернее, не ждал, а думал: “Вот хорошо бы...”
Будет еще одно новогоднее чудо! Он сидит у старинного камина (пускай и не горящего), а писатель читает ему свою книгу. Да еще о Крузенштерне! Час назад про такое Толик и мечтать не мог. Нет, в самом деле, последнее время полно сюрпризов...
Курганов сбивчиво объяснил:
— Ты не удивляйся, что я тебе... Я никому в жизни еще не читал, а ты... Тебя будто сама судьба послала... — Он нервно усмехнулся.
Толик хотел пошутить, что послала не судьба, а мама, но постеснялся и сказал:
— Ладно. Только...
— Что? Дома ждут? — огорченно спросил Курганов
— Нет, мама еще, наверно, на работе. Султан ждет на дворе, я на нем приехал.
— Ездовой пес?! — обрадовался Курганов. — Давай его сюда.
...Султан был воспитанной собакой. Войдя в комнату, он шевельнул хвостом, будто сказал “здрасте”. Курганов сел перед ним на корточки.
— Ух, какие мы красавцы... Прекрасное сочетание, помесь овчарки и лайки. И еще кое-чего понемножку, для гарнира. Медали за чистоту кровей нам не дадут, ну и не надо, зато мы сильные и умные... — Он бесстрашно взял голову Султана в большие свои ладони, потрепал по ушам, погладил загривок. А Султан... Толика даже ревность кольнула: стоит, бродяга, и хвостом машет, будто перед ним старый друг.
Курганов оглянулся на Толика.
— Мне с собаками много пришлось дела иметь, не удивляйся. Они своего сразу чуют... Откуда у тебя такой хороший?
— Сам нашелся, два года назад. Он совсем щенок был, худой, и лапа в крови. На нашу улицу прибежал, а я его домой привел. Мама сперва говорит: “Вот еще! Самим нечего есть, вот выставлю обоих из дома...” Потом лапу ему забинтовала...
— Умница, — опять сказал Курганов Султану, еще раз погладил его и распрямился — голова под потолок. Робко спросил: — Ну, что, Толик, начнем?
Толик заволновался и кивнул. Сел у холодного и чистого внутри камина. Султан прилег рядом. Курганов достал с полки желтую картонную папку.
— А камин у вас действует? — спросил Толик.
— Что?.. Да, конечно. Но тепла от него маловато, я печку топлю. Но можно и камин, возни только много... Разжечь?
— Да нет, я же так просто спросил...
Оглядываясь на Толика, Курганов сел к столу, раскинул папку. Странно замер над бумагами. Стало опять очень тихо, и снова Толик услышал медный стук часов. Зашарил глазами по комнате. Но в это время Курганов шумно вздохнул и сказал:
— Я сперва самое начало прочту, ладно?
Толик опять кивнул. Курганов надел очки, нагнулся над листом и глуховато заговорил:
— Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стоял учебный фрегат, двойным ударом, слышным на трех этажах, отметил начало первой перемены...
Пока Курганов читал, Толик пошевелился всего два раза. Первый, когда осторожно пересел поудобнее: устроился на стуле верхом, щекой лег на спинку. Второй — когда ногой толкнул Султана: тот, забыв о приличии, стал шумно чесаться. Чтобы не сопеть, дышал Толик, приоткрыв рот. От этого обсыхали губы, он водил по ним языком...
— Ну вот... — сказал Курганов и положил на папку вылезшие из обшлагов ладони. — Ну... как? Не понравилось, да?
Толик опять облизал губы.
— Понравилось. Только...
— Что? Ты не стесняйся, критикуй! — вскинулся Курганов.
— Да нет, все хорошо. Только жалко этого... Алабышева.
— Да? — обрадовался Курганов.
— Да, — вздохнул Толик.
— Но это же хорошо, что тебе его жаль! Значит... я как-то сумел
это... передать. Показать...
— Сумели, конечно! А Фогту потом что было? Его правда выгнали из корпуса?
— Разумеется! Но не в нем дело. Он тут не главный герой, про него больше и не упоминается... А какие еще замечания?
— Никаких! Только... там немного одно место непонятно. Что случилось с лейтенантом Головановым?
— С Головачевым... Это, брат ты мой, самая печальная история. Я про него много пишу. Я ведь тебе только пролог прочитал, а дальше будет про само путешествие.
— Это хорошо. А то я все думал: когда про “Надежду” и “Неву” начнется?
— Будет, будет и про это. Прямо со следующего листа... Можно, я тебе еще пару страниц прочитаю? Это про шторм, в который корабли попали в самом начале плавания.
— Ага! — Толик опять положил подбородок на спинку стула. Шторм — это приключение, это интереснее всего.
“Мрак был не черный, а мутно-зеленый — так, по крайней мере, казалось капитану. Он ревел, этот мрак, выл, свистел картечью морских и дождевых брызг и громоздился всюду исполинскими глыбами воды. Штормовые стаксели почти не давали кораблю скорости. Неуклюже, то носом, то бортом, валился он со склона волны, и казалось, что не будет конца этому падению. Достигнув подножия водяной горы, махина скрипучего парусника силою инерции все еще стремилась в глубину, черпала воду фальшбортом, набирала ее щелями разошедшейся обшивки, утыкалась бушпритом в накатившийся гребень. В это время упругая сила моря выталкивала корабельный корпус из водяной толщи, новая волна задирала “Надежде” нос, а очередной нажим бешеного норд-веста уваливал корабль под ветер и кренил до такой степени, что левый конец грота-рея вспарывал воду.
Свист воздуха в такелаже — тоскливый и более высокий, чем голос самого шторма, — надрывал душу.
Крузенштерн и второй лейтенант “Надежды”, двадцатитрехлетний Петр Головачев, стояли у наветренного ограждения юта... Хотя едва ли можно сказать “стояли” о людях, которые мечутся вместе с растерзанным парусником среди стремительно вырастающих водяных холмов, скользят сапогами по мокрой палубе и то цепляются за планшир, то с маху ударяются спиною об упругий штормовой леер. И слепнут от хлестких клочьев пены.
Впрочем, какая разница, слепнут или нет. Все равно мрак...
Нет, какие-то остатки света все же были заметны в кипящей смеси воды и ветра. То ли пробивался в случайный разрыв облаков луч звезды, то ли сами по себе пенные гребни давали сумрачное свечение. Ревущая темнота была испятнана, исчерчена смутными узорами этой пены.
“Надежда” опять стремительно пошла вниз, а впереди и справа Крузенштерн угадал громадную волну с двумя пятнами пены у гребня. Они мерцали, как белесые глаза.
“А и правда — чудовище”, — мелькнула мысль. Раньше Крузенштерн усмехался, когда встречал у романистов сравнения волн с живыми страшилищами. Он бывал во многих штормах и знал, что волны — это волны и ничто другое. Сейчас же сравнение пришло само собой. И Крузенштерн понял, что это — страх.
“Надежда” снова легла на борт, и пошли секунды ожидания: встанет ли? Со стонами начала “Надежда” выпрямляться.
“Господи, никогда не было такого...”
Не помнил он подобного шторма, хотя обошел на разных кораблях полсвета. Ни у берегов Вест-Индии, ни в Бенгальском заливе, где крейсировал с англичанами на их фрегате, ни в китайских водах, известных своими тайфунами, не приводилось встречаться со столь неудержимой силой стихии...
Палуба опять покатилась в глубину, шквал ударил в правый борт, оторвал от планшира Головачева, толкнул к бизань-мачте. Но через несколько секунд лейтенант снова оказался рядом.
“А ведь ему не в пример страшнее, чем мне, — подумал Крузенштерн. — Мальчишка... Хотя какой же мальчишка? Успел уже поплавать, побывать в кампаниях... Да и сам ты в двадцать три года считал ли себя мальчишкой? В скольких сражениях со шведами обстрелян был, в Англию попал на учебу в числе лучших офицеров... Да, но сейчас иногда вдруг чувствуешь себя ребенком. При расставании в Кронштадте сдавило горло слезами, как в детские годы, когда увозили из Ревеля в корпус...”
Сорвало кожаный капюшон, Крузенштерн опять натянул его.
“...А Головачев? Что я про него знаю? Единственный, с кем не был знаком до плавания. Посоветовали, сказали: искусный и храбрый офицер... А и в самом деле держится молодцом...”
— Петр Иванович, как на руле?! — крикнул Крузенштерн и подавился дождем.
У штурвала были различимы фигуры в штормовых накидках.
— На руле! Держитесь там?! — перекричал шторм лейтенант.
— Так точ... ваш-высок-бла-родь! Держ... — долетело до него.
— Кто рулевые?! — отворачиваясь от ветра, крикнул Крузенштерн.
— Иван Курганов и... Григорьев... ваш-сок-родь...
— Круче к ветру держите, ребята! Все время круче к ветру!
— Так точ... Держим ваш... родь...
— Крепко привязаны?!
— Так точ...
Опять чудовищный этот крен со стоном рангоута и мучительным скрипом обшивки. Встанем ли? “Ну, вставай, “Надежда”, вставай, голубушка... Да выпрямляйся же, черт тебя разнеси!”
Это надо же, как взбесились волны! И не где-нибудь в открытом океане, а в проливе, в Скагерраке, хоженном туда-сюда не единожды... В том-то и беда, что в проливе. Кто знает, где теперь берег? Стоит задеть камни — и пиши пропало. До чего же обидно — в самом начале плавания...
— Круче к ветру!
Да что могут сделать рулевые, когда хода у корабля нет, а вся ярость шторма лишь на то и нацелена, чтобы поставить “Надежду” бортом к ветру, к волне...
Какая-то фигура, цепляясь за леера, взобралась на ют.
— Кто?! — гаркнул Крузенштерн.
— Это граф Толстой! — отозвался Головачев.
Поручик гвардии Федор Толстой оказался рядом.
— Что вам здесь надо?! — Крузенштерну было не до любезностей.
— Наблюдаю разгул стихий, — отплевываясь, изъяснился поручик. — Любопытствую и удивляюсь себе, ибо ощутил в душе чувство, доселе неведомое. А именно — боязнь погибели. До сей поры был уверен, что в части страха обделен природою...
“Правда ли боится? — подумал Крузенштерн. — Или валяет дурака, а настоящей опасности не понимает?”
— Идите философствовать в каюту, граф! Здесь не место!
— Отчего же, капитан?!
— Оттого, что смоет в... — Крузенштерн не сдержал досады и назвал место, куда смоет бестолкового сухопутного поручика. Тот захохотал, кашляя от дождя и ветра. Неожиданно засмеялся и Головачев. И тут опять бортом поехали в тартарары, а сверху рухнул многопудовый пенный гребень.
Когда “Надежда” очередной раз выпрямилась и вскарабкалась на волну, Толстой выкрикнул:
— Кому суждено погибнуть от пули, тот не потонет!
— А вы знаете точно, что вам уготована такая судьба? — сквозь штормовой рев спросил Головачев.
— На войне ли, от противника ли у барьера, но знаю точно — от пули помру! На крайний случай — сам из пистолета в лоб! Не в постели же кончать дни свои офицеру гвардии!
— Завидна столь твердая определенность! — цепляясь за планшир, насмешливо крикнул Головачев.
— Кто же мешает и вам...
— На руле! Два шлага влево, чтобы ход взять! А как волна встанет, снова круто к ветру! — скомандовал Крузенштерн. — Так!.. Все, братцы, на ветер! Прямо руль!
— Разве же эта посудина слушает еще руля? — искренне удивился Толстой.
— Сие не посудина, а корабль Российского флота! — неожиданно взъярился Головачев. — И правда, шли бы в каюту, граф! А то и пуля не понадобится!
— А в каюте что? Та же вода! Хлещет во все щели!
“Коли выберемся благополучно и дойдем до Англии, сколько дней лишних потратим на новую конопатку”, — подумал Крузенштерн. И впервые выругал в душе милого Юрочку Лисянского за то, что не сумел он за границей купить корабли поновее.
Кстати, где он сейчас, Лисянский? “Нева” исчезла за дождем и волнами при первых же шквалах, и теперь лишь гадать можно о ее судьбе... Ну, да если мы пока держимся, бог даст, и она выстоит. Не случилось бы только самого худого: вдруг вырастет над волною силуэт корабля, кинется навстречу...
Экие мысли в голову лезут! Лисянский не новичок, не повернет судно по ветру. А все-таки...
— На руле! Смотреть вперед сколько можно!..
— Есть, вашблагородь! Сколько можно, смотрим!..
Это Курганов. Отличный матрос, хотя, по мнению некоторых, языкаст не в меру. Вот и сейчас проскочила насмешка: смотрим, мол, приказ выполняем, да только чего тут рассмотришь-то?
Ну и ладно. Ежели есть в человеке еще сила для насмешек, значит, держится человек...
Толстой крикнул опять:
— Здесь хотя бы на воле, а в каюте совсем тошно! Страхи спутников моих и стенания, кои слышатся там, усугубляют душевное расстройство!..
— По-моему, для борьбы с душевным расстройством вы излишне долго беседовали с бутылкою, — догадался Крузенштерн. — Только, ради бога, без обид, граф! Драться с вами на дуэли я все равно не имею возможности!
...Сумрак стал жиже, появились первые признаки пасмурного рассвета. На ют поднялись Ратманов и Ромберг.
— Иван Федорович, обшивка местами расходится, в трюме может случиться течь, — сказал Ратманов.
— Все может быть, если скоро ветер не ослабнет.
— Идите отдохните, Иван Федорович. И вы, Петр Иванович. Мы заступаем.
Крузенштерн спустился в каюту. Под бимсом — выгнутой потолочной балкой — мотался масляный фонарь. Воды было по щиколотку, она ходила от стенки к стенке. Фонарь раскидывал по ней желтые зигзаги. Плавала разбухшая книга.
Постель промокла. Крузенштерн повалился на койку, не снимая плаща. Качка сразу сделалась мягче, взяла его в большие темные ладони, вой ветра и плеск за бортами приутихли... И казалось, прошла минута, но, когда вестовой растолкал капитана, за стеклами свистело уже серое утро.
— Ваше высокоблагородие, их благородие Макар Иваныч просят вас наверх.
Качало так же. Свет давал теперь возможность видеть взбесившееся море. Дождя почти не стало, и, когда корабль подымало на гребень, был виден взлохмаченный горизонт.
— Иван Федорович! — крикнул Ратманов. — Не убрать ли стаксели? Они не столько дают нам движение вперед, сколько способствуют дрейфу! Слева вот-вот покажется берег.
— Подождем еще, Макар Иванович! Без стакселей мы совсем будем неуправляемы!
Но в четыре часа пополудни, когда слева открылся берег Ютландии, Крузенштерн приказал убрать штормовые стакселя и намертво закрепить руль. Шторм перестал двигать корабль к опасной суше, но зато “Надежда” совсем потеряла способность к маневру. К счастью, буря стала стихать.
К ночи ветер стал ровнее. Но дул он по-прежнему между вестом и вест-норд-вестом и не давал выйти из Скагеррака, хотя снова поставили стакселя, а также бизань и фор-марсель.
Лишь через сутки неустанной лавировки моряки увидели Дернеус — южный мыс Норвегии. К вечеру ветер стал тише, и тогда через северную половину потемневшего неба перекинулась дуга полярного сияния. Под нею, словно опоры великанского моста, поднялись облачные темные столбы.
Корабль все еще кидало на неуспокоенной после шторма зыби. Матросы завороженно и со страхом смотрели на светлую арку небесного моста. Вздыхали:
— Не к добру...
Не терявший веселости Иван Курганов пробовал пошутить:
— Этим мостиком, братцы, прямехонько в царствие небесное...
Шутку на сей раз приняли без одобрения.
Офицеры и ученые тоже считали, что необычное явление может быть предвестником нового шторма. Но, к счастью, дурные предположения не оправдались. Двадцатого сентября дул сильный, но попутный ветер, затем, когда вышли на Доггер-банку, наступил короткий штиль. Матросы приводили корабль в порядок. Несколько человек, зная рыбную славу здешнего места, закинули сеть, но без успеха. Крузенштерн с учеными испытывал новый прибор — Гельсову машину — для определения разницы температуры воды на поверхности и в глубине.
Пассажиры приходили в себя. Появился наконец за обеденным столом бледный и молчаливый Резанов. Он смотрел с укором, словно в недавнем шторме виноват был капитан “Надежды”.
Несколько раз Крузенштерн с тревогой и досадой навещал в гардемаринской каюте кадета морского корпуса Бистрема, своего племянника. Измученный непрерывной морской болезнью, племянник не помышлял уже ни о плавании, ни о флотской службе вообще. К счастью, повстречался английский фрегат “Виргиния”. Командиром его оказался капитан Бересдорф, знакомый Крузенштерну по службе в английском флоте. Он взялся доставить кадета Бистрема в Лондон, чтобы тот мог вернуться в Россию. Отправились в Лондон на “Виргинии” также астроном Горнер, чтобы купить недостающие инструменты, и его превосходительство камергер Резанов с майором Фридерицием — для обозрения английской столицы. Вернуться на борт “Надежды” обещали в Фальмуте, где корабль должен был чиниться после шторма.
27 сентября “Надежда” благополучно пришла в Фальмут, где и встретилась с “Невою”.
Погода сделалась хорошая, но люди еще жили воспоминаниями шторма. Кое-кто из пассажиров говорил между собою:
— Если такое было у берегов Европы, что нас ждет в океане?
Фальмут был последним портом перед выходом в открытый океан. Все писали письма, чтобы с попутными кораблями отправить домой. Ученые делали записи в журналах наблюдений.
Писал свой “Журнал путешествия россиян вокруг света” и главный комиссионер Российско-Американской компании, верный помощник Резанова купец Федор Шемелин.
Шемелина определили на жительство в констапельскую — глубокую кормовую каюту, где хранилось артиллерийское имущество. Свет сюда не проникал, днем и ночью приходилось жечь свечу в фонаре, да и та горела слабо в спертом воздухе.
При желтом дрожании огня Шемелин описывал шторм. Сообщал будущим читателям, что люди, оказавшись в той буре, вели себя по-разному: одни проявили неустрашимость, другие — малодушие. “Последних боязнь, — писал Федор Иванович, — простиралась до того, что с каждым наклонением судна набок представлялось им, что они погружаются уже на дно морское. Каждый удар волны об корабль считали они последним разрушением оного и прощались со светом. Те, которые являли себя храбрее на берегу, оказали себя на море всех трусливее и малодушнее”.
О ком именно идет речь, в “Журнале”, напечатанном в 1816 году, не сказано. И мы не станем строить догадок, дело прошлое. Но стоит запомнить мысль Шемелина, что настоящая смелость проявляется именно в суровые часы, а пустая важность и надутая храбрость при виде опасности слетают с человека шелухою.
Впрочем, ни один офицер, ни один матрос робости во время шторма не проявили, каждый службу свою нес честно и умело...”
Курганов закрыл папку и опять глянул на Толика: вопросительно и виновато.
— Здорово, — сказал Толик. — Даже страшно, когда про крен: встанет ли?.. Вот интересно: знаешь, что ничего с ними не случится, а все равно страшно. Будто сам на палубе... — Толик пошевелил плечами. — Будто даже брызги за шиворот...
— Да? — Курганов стремительно встал, шагнул к Толику, взял его большущими ладонями за плечи (Султан стрелками поставил уши и напружинился). — Ох, спасибо тебе... Прямо бальзам на мою грешную душу.
Толик глянул в высоту — в счастливое (и даже немного красивое) лицо Курганова.
— Арсений Викторович, а какая это будет книга? Детская или взрослая?
— Что?.. — Курганов опустил руки. — Я как-то не задумывался. Хочется, чтобы всем интересно было
— Так, наверно, и будет, — успокоил Толик.
Опять наступило молчание. И, услыхав снова медный стук шестеренок, Толик спохватился:
— Ой, а который час?
Курганов поднял на животе обвисший свитер, вытянул из кармашка у пояса большие часы на цепочке.
— Почти девять...
— Мама, наверно, скоро придет домой...
— Бессовестный я человек, задержал тебя.
— Да все в порядке, мы за пять минут домчимся!.. Ой... — Толик засопел и неловко затоптался. — Арсений Викторович, мама просила... если вы, конечно, можете... Может, у вас есть сегодня деньги за перепечатку?
Курганов хлопнул себя по лысому лбу.
— Ну, растяпа я! Ну, субъект! Сейчас, сейчас. Конечно...
Из кармана галифе он извлек потрепанный бумажник.
— Вот, пожалуйста... Ах ты, неприятность какая, десяти рублей не хватает. Как неудобно...
Он сделался виноватый, ну прямо как первоклассник перед завучем. Толик решительно сказал:
— Арсений Викторович, если у вас последние, то не надо.
— Ну что ты, что ты! Я завтра утром получу! И сразу эти десять рублей занесу. Я знаю, где вы живете, однажды заходил. Ты извинись за меня перед Людмилой Трофимовной...
— Да пустяки, — сказал Толик.
— Нет-нет, я завтра же... А эти деньги спрячь, не вытряхни по дороге.
— Не вытряхну. — Толик расстегнул курточку. Это была тесная, еще со второго класса, курточка с потайным карманом — его пришила мама для денег и хлебных карточек, когда Толику приходилось стоять в очередях.