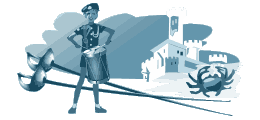4
Домой Серёжа пришёл под вечер. В прихожей его встретила Маринка. Она прыгала и ликовала:
— Динь-динь! А у нас телефон!
— Правда? Тетя Галя, правда поставили?
— Наконец-то, — со вздохом сказала тетя Галя.
— Почему "наконец-то"? Люди иногда больше года ждут.
— Это я про тебя: наконец-то явился, — объяснила тетя Галя. — Люди-то обедают когда полагается, а ты целый день скачешь голодный.
— Мы в кино пирожки покупали.
Подошел Нок, встал на задние лапы, а передние взгромоздил Серёже на плечи. Укоризненно посмотрел ему в лицо.
— Соскучился, крокодил? — сказал Серёжа. — Ну-ну, только не лизаться.
Он освободился от собачьих объятий, потрепал Нока по ушам и пошел к телефону.
Плоский светло-серый аппарат был похож на модель гоночной автомашины. Если только трубку убрать.
Серёжа поднес трубку к уху. В наушнике гудел настойчивый сигнал.
Маринка прыгала рядом. Она весело сообщила:
— А нам уже звонили!
— Кто?
— Папа звонил.
— А чего он звонил?
Тетя Галя сказала из кухни опять со вздохом:
— О чем он может звонить? Снова у Владимира Сергеевича задержится до ночи.
— Они же отчет об экспедиции готовят, — заступился Серёжа.
— Вот именно. Не могут ни днем ни ночью позабыть про свой отчет.
Серёжа осторожно положил трубку и пошел к себе в комнату. Нок, стуча когтями, двинулся следом.
За окнами синели сумерки. Недостроенный замок таинственно белел в полутьме, словно декорация приключенческой пьесы, когда спектакль уже кончился.
Серёжа погладил Нока и сел на кровать. Окончен хороший день, в котором были товарищи, удачный бой с Олегом, кинокартина с шипучими синими волнами, парусами и джунглями. Звон рапир и смех Данилки Вострецова. Горячие пирожки в буфете (три на двоих) и пока нерешительная, но добрая улыбка новичка Мити Кольцова... И теперь, в одиночестве, Серёже стало грустно.
"Может, позвонить кому-нибудь? — подумал он. — А кому?" И вспомнил: у Генки Кузнечика есть телефон. Только номер какой? Но тут же вспомнил и номер. Еще давно, весной, Генка объяснял ребятам: "Вот запомните. Тридцать два ноль два сорок четыре. Очень просто. Как дважды два — четыре. Только впереди троечка". Про что был разговор и при чем там Генкин телефон Серёжа забыл, а номер запомнился.
Кузнечик, наверно, удивится звонку. Они с Серёжей не дружили и даже приятелями не были. Правда, на той неделе Генка услыхал, что Серёже нужен пенопласт, и на другой день притащил коробку. Ну и что? Кузнечик любому человеку готов помочь, даже незнакомому.
А Серёже Генка нравился. Всегда. Но ведь не подойдешь к человеку и не скажешь: "Ты мне нравишься. Давай сделаемся друзьями". Серёжа, по-крайней мере, так не мог. И он лишь думал, давно, с третьего класса, что хорошо бы как-нибудь подружиться с Генкой Медведевым, которого тогда еще не звали Кузнечиком.
Прозвище Кузнечик появилось в прошлом году.
В самом конце августа, перед началом учебного года, в школах шли собрания. Было еще жаркое лето. Строгая деловитость учебной жизни не успела лечь на школу. Школа гудела, как большой рой. Никто не пришёл в форме, коридоры и классы расцвели от пестрых платьев, ярких рубашек и разноцветных испанок. Всем было весело, и даже строгая завуч Елизавета Максимовна рассмеялась, когда увидела, что Генка Медведев тащит по коридору большущую, с себя ростом, гитару.
Он принес ее в класс.
Ребята перед этим хвастались загаром, но теперь стало ясно, что чемпион по загару — Генка. Он все лето прожил в Севастополе и сделался коричневым, как его блестящая гитара.
— Подумаешь. Медведь и должен быть коричневым, — завистливо сказала длинная Люська Колосницына, именуемая обычно Люстрой.
Люстру не поддержали. Уж на кого-кого, а на медведя Генка никак не был похож.
Его затормошили, закидали вопросами:
— Генка, а зачем гитара?
— Ты играть научился, да? Ай да Геночка!
— Ой, да он врет, братцы! Я целый год учился, и то...
— Потому что у тебя таланта, как у курицы... Гена, сыграй!
— Ген, ты правда умеешь? Ну давай...
Генка кивнул. Уселся на парте, сложив по-турецки ноги, словно покрытые коричневым лаком. Хитро и немножко смущенно посмотрел на ребят. У него были продолговатые большие глаза, почему-то похожие на глаза громадного насекомого. И лихо торчал над лбом выгоревший хохол.
Генка постучал пальцами по гулкой гитаре: тра-та-та, та-та-та, тра-та...
Забренчал на струнах и запел:
Там где у цветов головки
Лепестками ветру машут,
Маленький кузнечик Вовка
Жил да был среди ромашек...
Играл он, конечно, не очень. Просто подыгрывал песне. Но песенка была интересная, целая сказка. Никому не знакомая. И пел он здорово. Негромко, но чисто и весело.
Не был Вовка музыкантом,
Хоть трещал не умолкая,
Вовка был работник-плотник -
Строил дачи и сараи.
Он пилой работал ловко,
Молотком стучал о доски:
Строил он мосты и лодки,
И газетные киоски...
Дальше рассказывалось, как в руки Вовке попалась золотистая лучинка, и кузнечик выстругал из нее шпагу "просто так, на всякий случай". А однажды...
Приземлился на поляне
Злой разбойник и обжора,
Очень страшный и нахальный
Воробей по кличке Жора.
Всякие жучки и божьи коровки прыснули во все стороны. А кузнечик остался: неудобно прятаться, если у тебя шпага. Бессовестный великан Жора хотел тут же проглотить Вовку, но шпага воткнулась ему в язык. И Жора улетел, подвывая не по-воробьиному. А песенка кончалась такими словами:
Чтоб врагам
хвалиться
было нечем,
Не беги
назад от них
ни шага.
Даже если ты кузнечик,
У тебя
должна быть
шпага.
Никто на заметил, что в класс вошла Татьяна Михайловна.
— Ай да молодец, Медведев, — сказала она. — Ты, Гена, за лето просто артистом стал!
Генка засмущался и вскочил прямо на парту.
— Да нет... Это не я. Это брат сочинил в Севастополе для ребят. Мы там с ним ялик ремонтировали...
— Ну ладно. Пора нам о делах поговорить, — сказала Татьяна Михайловна. — А потом расскажешь про Севастополь и про ялик. Садись-ка на место, кузнечик.
И тут все заметили, что Генка и правда похож на кузнечика: в зеленой, как трава, рубашке, а руки-ноги у него — будто сломанные пополам лучинки; и гитара его тоже похожа на туловище насекомого с одиноко торчащей лапой.
— Точно! И правда кузнечик! — развеселились ребята.
— Ой, батюшки! Я, кажется, тебе прозвище придумала! — с шутливым испугом воскликнула Татьяна Михайловна. — Гена, я не хотела.
— Да ничего, — покладисто сказал Генка. — Это лучше, чем Медведь. А то Люстра меня Медведем обозвала.
— Отныне считать Медведя Кузнечиком, — заявил Павлик Великанов — очень авторитетный в классе человек.
Так и повелось...
Серёжа набрал номер. Он боялся, что трубку возьмут Генкины родители, будут спрашивать, кто и зачем. Но ответил сам Генка.
Серёжа сказал:
— Здравствуй. Не узнал?
Кузнечик помолчал. Потом ответил:
— Узнал... Это ты, Серёжа?
Он сказал не "Каховский" и даже не "Серега", а Серёжа, и это прозвучало как-то неожиданно, по-дружески. И Серёжа обрадовался. Он сам не ждал, что так сильно обрадуется. Но тут же встревожился: в классе было шесть Сергеев.
— Это я, Каховский, — объяснил он.
— Да. Я понял, — все так же негромко сказал Кузнечик. — Хорошо, что позвонил.
— Почему хорошо?
— Ну, так просто, — откликнулся Генка теперь оживленнее. — Понимаешь, я сижу один, скучаю. И вдруг ты...
— А я тоже так просто. Нам только что телефон поставили, и я вспомнил твой номер. Ты что делаешь?
— Я же говорю: скучаю. Гитару мучаю.
— Ты уж, наверно, здорово научился играть, да?
— Нет, что ты. Я понемножку.
— Слушай, сыграй что-нибудь, — попросил Серёжа. Его словно толкнуло. И он загадал: "Если Кузнечик согласится, все будет хорошо". А что "хорошо", и сам не понимал.
Генка согласился сразу.
— Ладно... Я и сам хотел. Ты только трубку не клади, я гитару возьму... Ну вот, все.
И Серёжа очень ясно представил, как Кузнечик, такой же, как тогда в классе, сидит с гитарой на столе у телефона, прижимает щекой к плечу трубку.
— Ты слушаешь? — спросил Генка.
— Конечно.
— Понимаешь, это песня... Ее брат придумал, когда в институте учился. Они пьесу ставили про наших летчиков, которые за Испанскую республику воевали. Вот про этих летчиков песня...
Серёжа услышал негромкие удары по струнам и затем, гораздо громче струн, очень чистый Генкин голос.
Кузнечик пел отрывисто и печально:
Не трогай,
не трогай,
не трогай
Товарища моего.
Ему предстоит дорога
В тревожный край огневой -
Туда,
где южные звёзды
У снежных вершин горят,
Где ветер
в орлиные гнёзда
Уносит все песни подряд.
Там в бухте
развёрнут парус,
И парусник ждёт гонца.
Покоя там не осталось,
Там нет тревогам конца.
Там путь по горам
не лёгок,
Там враг к прицелам приник -
Молчанье его пулемётов
Бьёт в уши,
как детский крик.
Теперь Серёже не казалось, что Кузнечик сидит на столе у телефона. Он закрыл глаза и ясно увидел костер на поляне и Костю у костра, и ребят с оранжевыми от огня лицами, и Генку рядом с Костей. Будто они пели вместе.
...Не надо,
не надо,
не надо,
Не надо его будить.
Ему ни к чему теперь память
Мелких забот и обид.
Пускай
перед дальней дорогой,
Он дома поспит,
как все,
Пока самолёт не вздрогнул
На стартовой полосе.
Песня затихла. Было слышно, как Генка прижал струны ладонью. Он помолчал и сказал:
— Вот все... Ты слышишь?
— Да, — сказал Серёжа, — это такая песня... Про нее лучше ничего не говорить. Просто слушать, и все.
— Брат ее, оказывается, давно написал... А мне спел только сегодня. Это он когда про Чили услышал.
— Про что?
— Про Чили. Ты что, радио не слушал?
— Нет, — смутился Серёжа. — Я тут сегодня закрутился с делами...
— Там фашистский переворот! — с неожиданной злостью сказал Генка. — Генералы толстопузые мятеж устроили... Зря он этим гадам доверял.
— Кто?
— Президент Альенде. Они убили его. Обстреливали президентский дворец из танков.
— А я ничего не слышал, — тихо сказал Серёжа.
— Брат в июле был в Чили со студенческой делегацией. У него там друзья остались. Он мне и привез адрес одного парнишки, помог письмо написать по-испански. Я все ответа ждал. Теперь уж, наверно, не будет ответа...
Что мог сказать Серёжа? Он знал про Чили не так уж много. Знал, что там столица Сантьяго. Что там правительство, которое стоит за рабочих. И что президент Сальвадор Альенде распорядился, чтобы всем-всем детям в этой большой стране каждый день обязательно давали бесплатное молоко: и в городах, и в глухих горных деревушках... Видно, не всем нравится, когда у каждого из ребят, даже у самого бедняка, каждый день есть глоток молока.
— В общем, все, как тогда в Испании, — опять услышал Серёжа Генкин голос. — Ты читал книжку "Испанский дневник"?
— Не читал, — признался Серёжа.
— А у нас есть... — Ты бы пришёл ко мне, а? Мог бы взять ее. Если, конечно, хочешь. Ну, не обязательно за книжкой, а так... Ты ведь никогда у меня не был.
— Конечно, я приду, — обрадованно сказал Серёжа. — А ты? Ты тоже приходи. Ты ведь тоже у меня не был.
— Ладно! Я знаю, где ты живешь.
— Нет, у нас теперь новая квартира.
— Я знаю, — повторил Кузнечик.
— Откуда?
— Очень просто. Узнал, когда коробку тебе раздобыл. Хотел тебе домой ее принести. Пришёл, а у вас никого нет.
— Специально приходил?
— Ну да. С коробкой...
— А где ты ее раздобыл? Я думал, она твоя была.
— У соседа выпросил.
— Нарочно для меня? — все еще не решаясь поверить, спросил Серёжа.
— Ага... Послушай, а зачем тебе пенопласт? Не секрет?
— Не секрет, конечно. Я завтра тебе расскажу. Хорошо?
— Хорошо. Тогда до завтра?
— До завтра... Гена... А можно еще раз ту песню?
— Ладно.
...Но если в чужом конверте
Придёт к вам
чёрная весть,
Не верьте,
не верьте,
не верьте,
Что это и вправду есть.
Убитым быть -
это слишком:
Мой друг умереть не мог.
Вот так...
И пускай братишка
Ему напишет письмо...
Этой песней Генки Кузнечика хорошо было бы кончить рассказ о длинном Серёжином дне.
Но не все кончается, как хотелось бы.
Тетя Галя заглянула в Серёжину комнату и сказала:
— Тут один жилец приходил, на тебя жаловался. Что такое ты утром натворил?
Серёжа сидел на кровати и не спеша расстегивал рубашку. Он хотел пораньше забраться в постель, включить настенную лампочку, взять книгу "Двадцать лет спустя" и еще раз перечитать историю о том, как герцог Бофор бежал из Венсенского замка. Разговаривать об утреннем случае вовсе не хотелось. Даже вспоминать этого наглого Петю Дзыкина и то не хотелось...
— Ничего я не натворил. Это он натворил, — хмуро сказал Серёжа. — Задумал у ребят мяч проткнуть. А я не дал.
— Ну, про мяч я не знаю. А грубить-то зачем? Зачем ты ему таких слов наговорил?
— Я? — изумился Серёжа. — Я ему только сказал, что здесь общий двор, а не его огород. А что, не правда?
— Такие слова взрослому человеку говоришь. Хоть бы подумал: он в три раза старше тебя.
— Если старше, пусть не хулиганит. Его, что ли, мяч? Если нравится протыкать, пускай купит себе и протыкает...
— Вы же сами его из терпения вывели. Все цветы потоптали.
— Мы? Потоптали? — вскинулся Серёжа. — Во-первых, не "мы", потому что я там даже не играл. Во-вторых, ни один цветок не был сломан. Ведь ты же не была там, а говоришь!
— Ладно, ладно... Ты уже закипел, как чайник. Я в этом деле разбираться не стану. Отец придет, пусть разбирается.
— Ну да, будет он разбираться! Он бы сам вмешался, если бы видел, как этот Дзыкин к ребятам пристал.
— Ну и что же? Он — это другое дело. Он взрослый человек. И тот взрослый...
— Ты все одно: "Взрослый, взрослый"! — действительно закипел Серёжа. — Этот Петя не взрослый человек, а взрослый шкурник! Ну откуда они такие берутся? Сытые, нахальные, думают, что вся земля для них, весь мир! Для их грядок и гаражей! Все будто только для их пользы! Поэтому и наглые. Как тот шофер!
— Господи, какой еще шофер?
— Забыла? Ты меня все за рубашку дергала: сядь да сядь. В автобусе. А чего он к бабке привязался? Я же видел, что она деньги опустила, а он орет: "Деньги не бросила, а билет отрываешь! На кладбище пора, а совести нет!" Она плачет, а он орет. Его бы самого на кладбище! А ты только одно: "Сядь, не груби".
— Ну и что? Я ему сама сказала, что так нехорошо.
— Как ты сказала? Он и не посмотрел на тебя. Хорошо, что летчики вмешались... А другие сидят и молчат, будто не их дело. Тоже взрослые...
Тетя Галя устало отмахнулась:
— Тебя послушать, так будто и хороших людей на свете не осталось.
— Что? — удивился Серёжа. И как-то сразу успокоился. Ему сделалось даже смешно. И не стал он больше ничего говорить. Он вспомнил хороших людей, которых знал или видел. Костю, журналиста Иванова, маленького Димку... Тех летчиков в автобусе. Кузнечика... Татьяну Михайловну... Наташку, дядю Игоря. Ребят в своем классе и в Наташкином... Врача Марину Аркадьевну. Капитана Володю и моториста Витю с катера "Азимут"...
Это были только те, кого он вспомнил за несколько секунд. Потом Серёжа подумал о хороших людях, которых встречал сегодня: Олег, Андрюшка Гарц, Данилка и его барабанщики. Валерик, Вовка и Вадик Воронины. Андрюшка Ткачук. Андрюшкина мама в кинотеатре "Космос". Шофер какого-то служебного автобуса — он увидел ребят на троллейбусной остановке, открыл дверцу и сказал: "В кино небось собрались? Садитесь, а то опоздаете, там на линии провод оборвался".
И этот новичок, Митя Кольцов, кажется, тоже хороший парнишка.
А из плохих людей сегодня встретились только двое: горластая Дзыкина и ее ненаглядный Петя.
Кто же виноват, что среди людей попадаются такие дзыкины? Они вредят, гадят, хапают. И не всегда по злости, а потому просто, что им наплевать на всех, кроме себя. И кроме таких же, как они.
...И один такой может испортить жизнь многим хорошим людям.
...А всадники успевают не всегда...
Серёжа разделся и залез под одеяло. Открыл книгу. Стало тихо. Посапывал в своем углу Нок, и звонко тикал будильник.
"...Герцог Бофор приподнял верхнюю корку пирога и, к ужасу своего тюремщика, достал из-под нее веревочную лестницу..."
— Серёжа! — позвала из кухни тетя Галя. — Вынеси, пожалуйста, ведро. А то очистки уже на пол валятся.
Ну вот! Думаете, приятно вылезать из-под одеяла и тащиться к мусорному ящику?
— Тетя Галя, можно, я утром?
— Господи, неужели трудно спуститься по лестнице? Ящик в двух шагах.
Как можно убедительнее Серёжа сказал:
— Ну что с ним сделается, с этим ведром, до утра? Завтра встану и, честное слово, сразу унесу.
— Плесень-то разводить... — проворчала тетя Галя. Но больше ничего не сказала.
Серёжа снова уткнулся в книгу. Но все же его слегка точило беспокойство. Он невольно прислушался. В кухне звякнула дужка мусорного ведра. Серёжа вздохнул, откинул одеяло, сунул ноги в полуботинки и вышел в прихожую.
Тетя Галя стояла у двери с ведром в руке.
— Давай вытащу, — сказал Серёжа. — Раз так срочно это надо...
— Ладно уж... — Тетя Галя мельком взглянула на Серёжу. — Куда ты раздетый по холоду... Скажешь еще потом, что и я тоже никуда не годный человек.
В Серёже будто струна сорвалась. Он прикусил губу, постоял секунду и ушел к себе, стуча незашнурованными башмаками. Обида нарастала, как боль, когда прижигаешь йодом ссаженный локоть: первую секунду еще ничего, а потом жжет все сильней, сильней — прямо слезы из глаз.
И не из-за последних тети Галиных слов обида, а вообще. "Ну почему, почему так? Объясняешь, доказываешь, а тебя даже слушать не хотят?"
Мама смотрела с большой фотографии. Она сидела на корме вытащенной на берег лодки и немного удивленно улыбалась: "Кто тебя, Серенький?"
Серёжа лег лицом в подушку, стиснул зубы, но слезы все равно прорвались. Неожиданно горькие, неудержимые. Он сам даже не понимал, откуда это. Ничего такого-то уж не случилось. А остановиться не мог. И только одного хотел: чтобы тетя Галя и Маринка не услышали.
Прежде всех услышал Нок. Подошел, встревоженно ткнул его в локоть мокрым носом. Серёжа обхватил его за шею и заплакал сильнее. И стало уже все равно.
Поспешно вошла тетя Галя, села рядом.
— Да ты что, Серёженька? Ну зачем ты, в самом деле... Нельзя же так. Я же не знала, что ты уже лег. Будь оно неладно, это ведро!
Как будто в ведре дело!
Тетя Галя осторожно положила ему на затылок ладонь.
— Ну хватит, хватит... Ты уж не заболел ли?
Он сердито мотнул головой, сбросил руку. И мстительно подумал: "Боится, что папа придет и увидит, как я реву от нее". Но тут же ему стало стыдно от этой мысли. Будто он за спиной у тети Гали сделал какую-то гадость. Сразу ушла обида, остановились слезы.
— Да ничего. Все уже, — пробормотал он и потерся мокрыми щеками о подушку.
— Может быть, у тебя голова болит?
— Да нет. Это так. Ну все уже, правда...
Он сердито придвинул к себе книгу и глазами, в которых не высохли слезы, уставился в лист. И ничего не видел.
— Что же ты лег, даже не поужинал, — нерешительно сказала тетя Галя. — Может быть, встанешь покушаешь?
— Нет, не хочу.
— Тогда хоть чаю попей.
— Я правда не хочу.
— Ой, характер, — вздохнула тетя Галя. Погладила его по затылку и вышла.
Это она права: характер никудышный. Девчоночий. Глаза на мокром месте. Тогда летом, в автобусе, тоже чуть не разревелся. В тот момент, когда летчик загородил его и сказал водителю: "Ну ты, копеечный рыцарь, не кидайся словами! Сопляк — это тот, кто позволяет себе такие гнусные выходки, как ты сейчас. А этот мальчик в тысячу раз больше мужчина, чем ты".
Мужчина! У него тогда в горле заскребло, как у дошкольника, потерявшегося в универмаге. И он всю дорогу не отрывался от окна, потому что щипало в глазах.
Читать уже не хотелось. Он дернул шнурок лампочки и в темноте повернулся к окну. Там было видно только темно-синее небо. В нем горел яркий, как фонарик, Юпитер. Иногда он почти угасал и тут же снова радостно вспыхивал: это пролетали тонкие, невидимые облака.
Серёжа уснул. Ему приснился чужой, горячий от солнца город. Старинные серые дома с разноцветными стеклами в полукруглых окнах, темные арки и галереи, вдоль которых стояли могучие колонны из ноздреватого камня. Из пожухлой травы подымался средневековый испанский бастион с чугунными орудиями. На горячих стволах были оспинки от ржавчины. За старыми домами, как белые острые скалы, вставали небоскребы. Это был, наверно, Сантьяго.
В конце улицы синей стеной стоял тропический лес. Оттуда по середине мостовой шел навстречу Серёже мальчик в зеленой рубашке. В пустой улице, словно громкие часы в тишине, щелкали по плитам песчаника его подошвы. Мальчик был вроде бы Генка Кузнечик и в то же время Митя Кольцов и еще какой-то незнакомый мальчишка.
Город был враждебный, полный измены и злобы. За колоннами, за желтыми зубцами бастиона притаились пулеметы.
А мальчик шел.
"Что ты делаешь! Они же убьют! Ложись, прячься!" — закричал Серёжа. Но голос его погас в плотной знойной тишине и прозвучал только шепотом.
Серёжа хотел закричать снова, но тут включился пулемет. Он заработал беззвучно, и Серёжа лишь почувствовал круглые короткие толчки воздуха. На рубашке мальчика расползлись темные пятна, он постоял, опустился на колено, упал и раскинулся на плитах. Пуля ударила рядом и отбила от песчаника острый осколок.
Серёже захотелось лечь и вдавиться в камень. Но он, чувствуя всем телом, как следят за ним пулеметы, подошел и наклонился над мальчиком. Он почему-то сразу понял, что это тот мальчик, от которого Кузнечик ждал письмо.
На рубашке у мальчика в середине темных пятен были маленькие черные отверстия.
Серёжа перестал бояться. Он повернулся лицом к желтому бастиону и подобрал с мостовой каменный осколок. Сжал, как гранату.
Над каменными стенами появились головы врагов. И каждый из них был Дзыкин. Серёжа чувствовал, как они беззвучно кричат друг другу: "Скорей, скорей!" Из черного глазка пулемета выскочил оранжевый огонек, и пули очень сильно стали толкать Серёжу в грудь, в плечи. Но он не падал. Он решил не падать.
Каменный обломок удобно и прочно лежал в ладони. И Серёжа увидел, что это уже не камень, а рукоять с глухой, как у эспадрона, гардой. Из рукояти очень быстро выползал узкий зеркальный клинок.
Серёжа выпрямился над убитым мальчиком. Сжал рукоять и пошел к бастиону.
Не трогай!
не трогай!
не трогай!
Товарища моего...