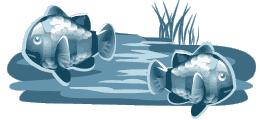6. Издалека...
Они сбросили палатку. Выскочили в свежесть и солнечное сверкание. Заплясали опять, поджимая ноги в мокрой высокой траве.
Раскидали штаны, рубашки и майки на сосновой поленнице. От влажной материи пошел пар. Под горячими лучами она высыхала на глазах.
Шурка мотнул головой, прогоняя мысли о Гурском. Пусть сейчас не будет в настроении даже самого маленького пятнышка. Пусть лишь вот этот яркий день, стеклянные бусы дождя в траве, густая синева неба у края уходящей тучи... И новые друзья. Женька...
Круглого шрама на груди он уже не стеснялся, забыл о нем.
Женька в своем синем купальнике гонялась за хохочущим Кустиком – удивительно тощим и незагорелым, как свежая щепка. Кустик стряхивал на Женьку капли с яблонь, а она: "Ну, я тебе покажу, Кудрик-Мудрик!" – и в погоню...
Шурка засмотрелся, смутился, стал глядеть в другую сторону и бодро вспомнил:
– А как там мой башмак? Наверно, уже заклеился!
Платон бросил ему кроссовку из-под навеса.
– Держи! Как новенький! Надевай и будешь, как огурчик...
Шурка машинально поймал и стоял неподвижно. Откуда в ушах этот тоскливый, этот издалека пришедший гул? Как вой далекого мотора. Ближе... ближе...
Он еще старался удержать в себе радостный день, свое нынешнее счастье. Он даже попытался улыбнуться... Да нет же, ничего не случилось)
Запыхавшийся, отбившийся от Женьки Кустик подбежал, встал напротив, наклонил пегую голову к костлявому плечу. Глаза озорно сияли.
– Шурчик-мурчик будет, как огурчик...
И сразу – будто тьма...
Гурский говорил о блокаде памяти. Вернее, о фильтре. О таком, который пропускает в память прошлое небольшими дозами. И к тому же, прошлое это – как бы обесцвеченное, без переживаний. Словно не с тобой это было, а с другим. И давно, давно, давно...
"Иначе, Полушкин, вам просто не выжить. Тоска убьет вас, говорю это прямо. И главное – вы не сможете сделать то, что вам предназначено..."
"Что предназначено?"
"Об этом позже. Сначала о блокаде. Вы согласны?"
"Как хотите..."
"Нет, это вы должны решить..."
"Ладно..."– Он и правда устал от тоски.
И... ничего не случилось. Но прошлая жизнь как бы отгородилась полуметровым стеклом (и были на этом стекле совсем непрозрачные пятна). А к нынешней жизни стал проявляться слабенький, но все же интерес. Проклевывался тонкой травинкой. Особенно, когда разговор заходил о Рее...
А сейчас... сейчас то стекло будто рухнуло со звоном осколков.
...Ник, Платон, Женька, Тина и Кустик потерянно смотрели, как новый их приятель съежился на корточках и сотрясается от плача. Слезы были взахлеб, не сдержать. Что же делать-то?
Тина в сердцах дала Кустику подзатыльник.
– Балда! Доигрался со своими дразнилками! Смотри, до чего довел человека!
И Шурка услышал. Да, сквозь неудержимый плач все же услышал эти несправедливые слова. Рывком выпрямился. Не останавливая слез, взял Кустика за плечи, придвинул к себе – словно от ударов защищал:
– Ну, вы чего! Он же не виноват!.. Он... Это я... Сам...
Надо было спасать Кустика, спасать себя. Если не поймут, откуда эти слезы, может рассыпаться начавшаяся дружба. И тогда что? Опять один, один... И не будет Женьки... Будет лишь прорвавшаяся сквозь блокаду беда...
– Он же не знал!.. Я сам... потому что... это сразу вспомнилось. Вы не злитесь... Потому что отец тогда сказал такие же слова, и потом... почти сразу...
– Шурчик-мурчик, будешь, как огурчик...– Отец смеялся, поправляя на нем новую зеленую бейсболку. А комната была залита неудержимым июньским солнцем. И теплый ветер колыхал шторы. Он был с запахом доцветающей сирени. Шурка нетерпеливо переступал новенькими зелеными кроссовками. В нем тугими струнками звенело ожидание радостного путешествия и свободы. Школьный год – позади. Отчетный концерт в "Аистятах" – позади. А впереди – аэродром, первый в жизни полет и – море! На том южном берегу, куда не докатились гражданские войны и кровавые разборки. Они еще есть, такие берега...
– Сейчас отвезу домой шефа, поставлю машину, и мы с тобой на автобус. В аэропорт.
– Пап, ты только недолго!
– Двадцать минут...– Хлопнула дверь, зашумел лифт. Шурка заломил бейсболку, шагнул через упавший чемодан, встал перед зеркалом. Нарядный такой, собравшийся в путешествие мальчик. Счастливый десятилетний папин Шуренок, у которого впереди одни радости... Словно трещины пошли по зеркалу. Загрохотали внизу на улице черные железные молотки...
Шурка опять сел на корточки. Пахло мокрой травой и дровами. Остальные присели вокруг Шурки. Он вздрагивал и вытирал глаза. И ничего не скрывал, когда рассказывал. Только слово "папа" произносил с легкой запинкой, потому что уже отвык.
– Папа... он работал в фирме "Горизонт". Ну, то с компьютерами было связано. Небольшая фирма... Он был шофер, возил директора, дядю Юру Ухтомцева. Он не только шофер был, а еще как бы и помощник, консультант... И вообще они были друзья... Раньше папа работал не шофером, а диспетчером на аэродроме, но его выжили. Потому что не хотел поддерживать забастовку. Все диспетчеры решили бастовать, на их место послали военных, а папа говорит: "Они же в пассажирских полетах ни бум-бум. Люди могут погробиться". И вышел на работу. Ну, и потом не стало ему там жизни... Вот он и ушел в "Горизонт"...
Шурка всхлипнул опять. И чтобы не дать ему расплакаться снова, Женька спросила:
– Вы с папой вдвоем жили, да?
– Да... Мама умерла, когда мне пять лет было... Он сперва женился второй раз, но ничего хорошего не вышло. Ну и мы вместе, двое... Мы хорошо так жили. А в тот день – все сразу... как бомба...
...Когда он выскочил из подъезда, у машины никого не было. В лобовом стекле – частая цепь пробоин. Шурка раньше видел такое в кино. Дядя Юра Ухтомцев отвалился на спинку сиденья. А отец сидел за рулем прямо. И смотрел мимо Шурки. В уголке рта набухла крупная, как алая ягода, капля. Шурка закричал...
Тот крик надолго застрял у него в ушах. Засел в легких занозистым деревянным кубиком. И жил с этим кубиком Шурка долго. Сперва в детприемнике, потом в интернате. Кубик мешал дышать, и Шурка часто кашлял. Воспитательница водила его к врачу. Тот сказал: "Бронхит". А это был не бронхит, а застрявшая тоска. И горькое беспросветное недоумение: "Почему это так? За что?"
– ...Понимаете, все разом куда-то... ухнуло. Ни отца, ни дома...
– А дом-то...– напряженно оказал Платон.– Квартира-то куда девалась? Она же твоя...
– Боже мой, да на нее тут же... слетелись, как вороны. Оказалось, что у кучи людей документы. Будто отец ее продал...
– А нельзя, что ли, было пойти, доказать? – спросил наивный Кустик.
Шурка проглотил последние слезы.
– Ага... Я сперва так же думал. О справедливости... Сбежал из приемника, пошел в милицию. Пустили меня там к одному... Следователь Харченко. Он сразу: "Квартира – не мое дело. Ты лучше скажи: знаешь, что у отца был пистолет?" Я это, конечно, знал. У папы "Макаров" был. С разрешением. Папа мне давал стрелять в лесу. Я в консервную банку научился попадать с десяти шагов... Я и говорю:
"Знаю, конечно..."
А этот Харченко:
"Тогда скажи: куда он девался?"
И давай катить на меня. Ну, мол, будто я этот пистолет куда-то спрятал... А мне до того, что ли, было?.. А "Макаров" этот, скорее всего, был тогда и не у папы, а в сейфе, в "Горизонте". Папа наверняка его сдал перед поездкой, в самолет ведь с оружием испускают. Я так и говорил сначала. А Харченко:
"Ты мне мозги не пудри. Я знаю, что у вас дома был тайник..."
И потом еще несколько раз меня из приемника таскали в милицию. Будто уже совсем обвиняемого: "Где пистолет? Говори, если не хочешь в спецшколу!" Они там даже не понимали, что мне все равно: хоть в спецшколу, хоть на тот свет... Один раз я не выдержал, как заору на этого Харченко:
"Чего вы ко мне привязались! Лучше бы арестовали тех, кто отца убил!"
А он:
"Ты еще тут глотку драть будешь, сопляк! Последний раз спрашиваю: где пушка?"
Ну, я и выдал в ответ:
"Если,– говорю,– была бы у меня эта "пушка", разве бы вы, гады, ходили живые? Вы – одна лавочка с бандитами..."
Он вскочил, замахнулся, а я в него плюнул...
Били Шурку профессионально, Так, чтобы не было следов.
В маленькой комнате без окон. Двое ловких, коротко сопящих парней в пятнистой робе. От них пахло табаком и кирзовыми башмаками. Шурка так и не понял, чем били. Боль раскатывалась по внутренностям тугими резиновыми шарами. Распластанный на лежаке Шурка сперва дико вскрикивал, потом кашлял и мычал. И злорадно думал, что сейчас умрет и тогда уж этим гадам придется отвечать, не отвертятся. Тогда он еще не полностью избавился от наивности...
А кроме того сквозь боль проскакивали отрывочные мысли о пистолете. Мысли-проблески. "Если бы у меня и правда была "пушка"..."
И потом, осенью, когда на краю кладбища нашел он среди мусора ту прямую латунную трубку, мысли были уже четкие...
Это случилось, когда он жил в интернате...
Нет, про трубку не надо. По крайней мере, сейчас не надо...
На кладбище он ходил часто. Интернат стоял от кладбища неподалеку (хоть в этом повезло). Шурка убегал и шел на мамину могилу. Потому что даже в самой беспросветной жизни должно быть у человека хоть что-то родное.
На могилу отца он не ходил – ее просто не было. Отца сожгли в крематории и засунули урну в стену, за серую каменную табличку. Лишь на это хватило денег у фирмы "Горизонт", которая стремительно разорялась. До крематория было километров двадцать, не доберешься. Да и что там делать перед глухой бетонной стеной с сотнями имен? А тут, на кладбище – кусты и скамейка рядом с могильным камнем. И рядом – никого...
Но сюда приходил уже не прежний Шурчик Полушкин. Не ласковый, веселый и слегка избалованный папин сын. Приходил замызганный пацаненок с острыми скулами, с твердым кубиком в легких и застывшей душой. Сидел под мокрыми увядшими листьями рябины. Думал. Не спешил. Куда было идти? Обратно в интернат?
...Нет, про интернат сейчас тоже не надо. Про эту серость и кислый запах в коридорах. Про таблетки и уколы, чтобы ночью вели себя тихо. (И тихо вели. Но гадко...) Про улыбчивые делегации, привозившие "сироткам" гуманитарную помощь – ее потом с визгом и руганью делили воспитательницы.
...А есть такое, о чем при Женьке и при Тине вообще не скажешь никогда. Об этой ночной возне в девчоночьих спальнях. Или о скользком, как червяк, восьмикласснике по прозвищу Гульфик – активисте и директорском прихлебателе. Как он, когда гасили свет, ужом лез в мальчишечьи постели. И слюнявыми губами в ухо: "Ах ты мой хорошенький. Дай-ка я попробую на твердость твой гвоздик..." И однажды попробовал Шуркин – стальной, отточенный, длиной в двенадцать сантиметров. Шурка в сентябре подобрал его на стройке и держал под подушкой.
Потому что насчет всех этих дел просветили Шурку еще в приемнике. И он понял: тут два пути. Или покориться, или быть готовым на все: на отчаянную драку, на боль, на кровь, на тюрьму. Даже на смерть...
Гульфика – воющего, с разодранной на боку кожей – утащили в медицинский кабинет. Дело замяли: директорша не хотела скандала, до милиции не дошло. Но Шурку, разумеется, били опять: сперва по щекам в директорском кабинете, потом в "комнате для трудных" – воспитатель Валерий Валерьевич, резиновым шнуром от скакалки. "Не дрыгайся, моя пташечка. Будешь орать – все узнают про случай с гвоздем. А тогда уж точно – спецшкола..."
Шурка не орал. Непотому, что боялся спецшколы. Просто колючий кубик в груди был, как клапан. Да и к боли Шурка уже притерпелся: били везде – и в приемнике, и в милиции, и в интернате. Воспитатели и все эти "дежурные по режиму", и парни – те, кто постарше...
Он не хотел об этом, но все же не удержался, сказал сейчас ребятам:
– К битью привыкаешь... А к табаку привыкнуть не мог, бронхи болели от кашля... А труднее всего было знаете что? Не поверите... Не мог сперва ругаться, как другие. Потом научился. Без этого нельзя. Чтобы выжить, надо было казаться таким, как все.
– Казаться... или быть? – тихо спросил Платон. Судя по всему, он понимал больше других.
Шурка мотнул головой.
– "Быть" не получалось. Всегда было жалко маленьких. Им там хуже всех, в этом зверятнике... А еще... у меня же там была задача. Выжить, чтобы встретить того... Главного, кто послал автоматчиков.
– Значит... ты узнал, кто это был? – испуганно спросил Кустик.
– Господи! Да это все знали... Такой гад по фамилии Лудов. Он ездил на "мерседесе" с целой бандой охранников, заведовал ресторанами, рэкетирскими шайками и всякими торговыми домами. "Горизонт" отказался платить ему дань, ну и вот...
– А почему не арестовали-то?! – взвинтился Ник.
– Говорили: "Нет доказательств"... Зато друзей в милиции у него было сколько хочешь. Тот же Харченко... Я уж потом догадался...
– И... что ты хотел с ним сделать? – словно через силу спросила Женька. Шурка глянул и отвел глаза.
– Не получилось? – шепотом сказал Платон.
Шурка покачал головой. Он понял, что пора остановиться.
– Я же говорил... Попал под машину. На дороге... А потом клиника. Врач по фамилии Гурский... Он, говорят, сделал чудо...
Шурка вдруг улыбнулся. И с облегчением, и с просьбой: "Давайте больше не будем обсуждать все это..." Гурский словно оказался рядом и повел рукой. И завеса из полупрозрачного стекла опять беззвучно опустилась между Шуркой и его прошлым. Он всхлипнул самый последний раз – виновато и запоздало.
– Вы... наверно, думаете: вот, появился тут такой, разревелся, как маленький...
Все немного помолчали.
– Глупенький...– вздохнула наконец Женька. Мама когда-то в точности так же говорила после долгих его слез.– Глупенький... Никто ничего такого не думает...
Платон сказал насупленно:
– И что же, что разревелся? Может, это и хорошо: от слез легче делается. Не зря их природа выдумала... Ты не бойся, мы все понимаем.
– Конечно, с нами такого не было,– рассудительно вставил Кустик.– Но тоже... Вот у Ника, например... Ладно, потом...
Шурка вытер лицо ладонью. Медленно встал. Солнце жарило плечи. Головки иван-чая покачивались у щек.
– Главное чудо не то, что он меня вылечил,– сказал Шурка всем. И Женьке.– Самое хорошее, что я здесь.
– Это уж точно! – обрадованно согласился Ник. С намеком, что хватит уже о грустном.
Но Шурка все-таки сказал еще:
– Они там в клинике не только сердце мне спасли. Еще и эта... психотерапия была. Чтобы страшное не вспоминалось слишком часто. Помоему, перестарались...
– Ты думаешь? – насупленно спросил Платон.
– Кое-что не помню совсем... Например, город, в котором жил. Как называется. Бабу Дусю спрашиваю, а она молчит. Боится, что мне хуже станет...
– Значит, любит,– рассудительно заметил Кустик.