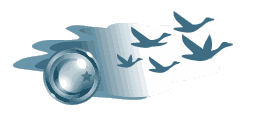Муниципальная тюрьма
Ничего, конечно, не случилось. Да и что могло случиться сейчас? Это ведь пока не тюрьма. Как ни странно, сердце почти успокоилось. Корнелий глянул вперед. Улица опять поворачивала. Корнелий механически зашагал и, достигнув поворота, увидел аллею с жидкими деревцами. В сотне шагов аллея упиралась в невысокую белую стену с зелеными воротами. У ворот — будка с приоткрытой дверью и окошечком. Над стеной — верхушки тополей и крыши под искусственной черепицей — такой же, как на доме Корнелия.
Совсем не страшно. Тюрьма выглядела провинциально, даже уютно — как в мексиканском городке из фильма "Любимый конь капитана Диего Лас Пальмаса".
Ни мирный вид тюрьмы, ни добродушная внешность палача не дают, конечно, осужденному надежды на спасение, но как-то успокаивают. Это Корнелий давно еще вычитал в какой-то детективной книжке. И сейчас он правда почувствовал себя спокойнее. Страх поулегся. Вместо него нарастало другое скверное чувство: ощущение казенной зависимости, стыдливой неволи. Вроде той унизительной беспомощности, с которой он принужден был являться по призыву на милицейские казарменные сборы.
Именно с этим поганым чувством Корнелий шагнул в дверь проходной будки.
За старомодным, с точеными деревянными балясинами барьером сидел на табурете караульный. В самой вольной позе: привалившись к стене и взгромоздив казенные уланские ботинки с крагами на высокий ящик из-под пива. Берет на нем был тоже уланский — со значком и номером, а штаны и клетчатая рубашка — штатские. С широкого ремня спускался и висел почти у пола десятизарядный длинный "дум-дум" в кобуре без крышки. Рожа у этого привратника ада была круглая и вполне тупая. Выражение на ней, однако, было глубокомысленное, ибо этот человек предавался одному из самых философских и древних занятий. Следил за мухой на потолке.
Услышав шаги, он перевел глаза с мухи на вошедшего, убрал с ящика ботинки. Подумал, поправил берет. С чисто уланской смесью фамильярности и сухости осведомился:
— Куда направляемся?
— К вам, наверно, дружище... — В развязности Корнелий постарался спрятать стыд за свою обреченность и опять подскочивший в груди страх. — К вам, больше некуда. Вот, прислали бумажку.
Стражник неторопливо взял двумя пальцами предписание. Зашевелил мокрыми, как у слюнявого мальчика, губами. Глянул из-за листка на Корнелия. Опять в листок. И снова из-за листка. Рот у него приоткрылся, в глазах появилось что-то вроде сочувствия. Большим пальцем он сдвинул берет далеко на затылок. Краем бумаги почесал подбородок.
— Да-а, братец. "Повезло" тебе... Держи. — Он сунул предписание в мелко дрожащую руку Корнелия. Дотянулся до телефона, снятой трубкой поколотил по контакту. — Господин старший инспектор! Тут такое дело, не поверите. "Миллионер" явился!.. Да честное слово!.. Не-е, улицу не там перешел. А я-то при чем, господин старший инспектор? Не я же его сюда притащил!.. Ну да, "гони в шею"! А потом меня в шею? Да еще "двадцатку" вляпают за нарушение устава!.. Я понимаю, но что делать-то?.. Слушаюсь, господин старший инспектор.
Он положил трубку, со смесью жалости и задумчивого любопытства глянул на Корнелия. Лицо у парня стало даже слегка симпатичным.
— Ты вот что. Двигай через двор по главной дорожке, потом первый поворот налево. Упрешься в контору. Там в комнате номер один сидит старший инспектор господин Мук. Он все оформит.
Привстав, парень вздохнул и толкнул внутреннюю дверь.
Старшему инспектору на вид было лет тридцать пять. Белобрысый, с невзрачным лицом и узкими плечами, он сидел за широченным конторским столом — совершенно пустым. Вертел в пальцах куцый карандаш. Поднял на Корнелия белесые ресницы.
— Это ты, значит, "миллионер"? Давай документ, бедолага... Да не стой, вон скамейка.
С ощущением, что все это жутковатый сон, Корнелий сел у белой стены. К страху он притерпелся настолько, что теперь испытывал даже что-то вроде болезненного интереса: а что дальше? Или это правда сон? Какая-то чужая комната с пустыми стенами, бесшумно качаются листья за решетками открытых окон. Какой-то бесцветный тип за облезлым столом читает бумагу. Про него, про Корнелия. Карандашом что-то на-царапал на столе (кажется, его, Корнелия, индекс). Прочитал, бросил бумагу в ящик. Сказал с искренней досадой:
— И какого черта они присылают в субботу? Я что с тобой буду делать? Исполнитель-то бывает по понедельникам.
В глубине души Корнелий поразился обыденности разговора. И огрызнулся так же буднично:
— А я при чем? Я сюда не просился.
Старший инспектор на это не рассердился. Покивал:
— Понимаю, тебе тоже кисло. Ах ты, дьявольщина, что же делать? Теперь будет волокита. Ладно, обожди!
Развернувшись, он взял с подоконника желтый аппарат с клавиатурой междугородной связи. Вскинул трубку, защелкал кнопками.
— Алло! Узел? По шифру "Лист", восьмая строка. Благодарю. Сектор наблюдения? Добрый день, на связи муниципаль ная тюрьма номер четыре, старший инспектор Альбин Мук. Виноват, не понял... Да, Альбин Мук из Летова. Кто-о? Ваккер? Стари-ик! Откуда ты выплыл? Значит, ты сейчас шеф сектора? Помощник? Ну, все равно растешь! Я стою навытяжку. Слушаюсь, стоять вольно, ха-ха... Да помаленьку, какие тут у нас перспективы. И мороки полно. Конечно, не ваши столичные масштабы, но все равно. Ага, по делу, разумеется. Снять с учета индекс. Нет, по административному. Вляпался тут один по миллионному шансу. Да, я и то говорю: не повезло мужику. За переход на красный свет, кажется. Вот-вот: живешь, не тужишь, и вдруг — трах! Одно слово — Машина. Все под ей, под родимой, ходим. Ага, даю: У, Эм, Эф... Тире, Икс... сто одиннадцать, триста сорок четыре... Что? Да нет еще, послезавтра, наверно... Боже мой, ну какая разница? Куда он денется? В понедельник могу не успеть, исполнитель иногда под вечер является, во вторник у нас аппаратный день, потом я закручусь, не дозвонюсь, и будет на мне висеть. Вак, по старой дружбе, а? Вот спасибо. А это еще зачем? Ох и бюрократы вы, господа наблюдатели! Шучу, шучу... — Он отодвинул трубку и глянул на Корнелия. — Слушай, тебя как звали? Индекса им, крохоборам, недостаточно...
От этого мимолетного и добродушного "звали" Корнелия опять ударило упругой подушкой ужаса.
— К... кха... Кор... нелий...
— Полностью, полностью.
— Корнелий Глас... Из Руты...
— Ишь ты! У меня теща из Руты...
И старший инспектор снова заговорил в трубку, а Корнелий, утопая в серой полуобморочной мути, исходил теперь мысленно беспомощным криком: "Почему "звали"? Я не хочу! Я вот он, я есть! Меня зовут Корнелий Глас из Руты, я хочу жить! Не надо меня..."
Потом его опять отпустило, и он как сквозь вату услышал голос инспектора Альбина:
— Ладушки, Вак... Оч-хорошо. Спасибо. Занесет в наши края — заходи, раздавим жбанчик по-старому, вспомним уланскую молодость. Естесно. Супруге привет. Да? Ну, извини, не знал. Ясно. Как поется: "Неизвестно, кому повезло"... О чем разговор! Обижаете, начальник. Ха-ха... Ладно, будь!
Альбин опустил трубку. Перевел взгляд на Корнелия. Улыбка сходила с лица старшего инспектора, будто стираемая медленной ладонью. Глаза поскучнели. Старший инспектор Мук от воспоминаний, вызванных беседою со старым приятелем, возвращался к будням тюремной службы. Но надо отдать справедливость: даже и сейчас в его глазах Корнелий не заметил раздражения. Скорее опять намек на сочувствие. И даже капельку виноватости.
— Вот же ж кретины, присылают в субботу. Дак что мне с тобой делать-то?
Корнелий пожал плечами. На него в эту минуту накатило ленивое безразличие. Снова ощутимо подташнивало. Инспектор побарабанил пальцами, повернулся к окну и неожиданно сильным тенором крикнул сквозь решетку:
— Гаргуш! А ну, зайди ко мне!
Через полминуты возник в дверях нескладный длинный парень с унылым носом и печальными глазами. Расстегнутая уланская форма висела на нем как на вешалке. Парень медленно начал:
— Я вас слушаю, господин ста...
— Слушай, слушай. И делай... Прислали вот человека, надо ему перекантоваться до понедельника, ты устрой.
Гаргуш неожиданно осклабился: зубы желтые, большущие.
— Ну, а чего... Номера-то все свободные, как на Побережье в пустой сезон.
— Понятно, что свободные. Ты устрой как надо: постель там и все прочее. Чтобы по-людски. Человек-то не виноват, не уголовник ведь, просто залетел по миллионному делу...
"Миллионное дело", звучит-то как", — отрешенно подумал Корнелий. Гаргуш глянул на него — в печальном взоре что-то вроде доброжелательного любопытства.
— Дак пойдемте, что ли...
Корнелий встал.
— Как-нибудь перекрутишься пару суток, — вздохнул инспектор. — Не курорт, но что поделаешь...
— Господин инспектор, а кормить-то чем? — вдруг обеспокоился Гаргуш. — Это что, значит, из-за одного человека мне кухонную линию доставки налаживать? Она ведь, сами знаете...
— Не надо. Возьмешь еду за стеной, у ребятишек. У них, конечно, не ресторан, да что поделаешь. Не отощает гость до понедельника...
Корнелий на вялых ногах шагнул к порогу. И там замер, настигнутый новым приступом страха. И не сдержался, слабо хмыкнул, спросил:
— Ну, а в понедельник-то что? Как оно тут вообще у вас... делается?
Он сознавал, какая ненатуральная, жалкая его развязность, и знал, что инспектор видит его насквозь. Но тот отозвался без насмешки, с бодрым пониманием:
— А, ты про это! Да брось, не думай. Чепуха, шприц-пистолетик, безболезненный. Ляжешь на диванчик и не заметишь, как бай-бай... Все там будем — не завтра, так послезавтра...
Этой нехитрой мыслью — "не завтра, так послезавтра" — Корнелий и успокаивал себя, двигаясь за надзирателем Гаргушем. Пришли в одноэтажный белый дом. В коридоре — с десяток дверей, на каждой зарешеченное окошко и засов. Все как полагается.
Камера оказалась просторная. Белая. Окно большое, решетка — с завитками, как в старинном замке. Гаргуш вышел, скоро вернулся, начал расстилать на узком матрасе простыни и одеяло.
— А вон там, на полке, значит, электробритва. Только втыкать надо в коридоре, тут дырок нету... И гальюн тоже в коридоре, в конце...
— Запирать-то, выходит, не будешь?
— А на кой? — удивился Гаргуш. — Гуляйте хоть по всей территории, радуйтесь белому свету. Только за проходную не суйтесь, а то там на контроле Кизя Лук сидит, крик подымет...
Наконец он ушел, и Корнелий обессиленно свалился на жесткую койку. Лицом в подушку. Обдало запахом стерильного казенного полотна — как в казарме на сборах. Это был запах тоски и безнадежности. Но подняться не хватило сил.
Вот она какая — камера смертников. Чистая, просторная, незапертая. Солнышко сквозь окно печет затылок. Тюремные чиновники добродушны и снисходитель ны... Лучше бы уж кандалы, сырой подвал, пытки... А эта пытка — лежать, утыкаясь в подушку, и ждать двое бесконечных суток... Или, наоборот, очень коротких? Несчастье или благо эта отсрочка? А если бы это прямо сейчас — лучше было бы или хуже?
Сегодня, завтра или послезавтра — какая разница?
Зачем ему эти два дня и две ночи? Может, чтобы подвести итоги, подумать о смысле прожитой жизни?
А в чем он, смысл-то?
Много лет учили Корнелия Гласа, как и других школяров, что главный смысл — внести свой посильный вклад в упрочение цивилизации. В укрепление стабильности общества. Какой вклад он внес? Самая главная работа — это, пожалуй, рекламное оформление Готического квартала. Да, ничего получилось, все оценили. И была премия, и было повышение, и даже в ехидстве Рибалтера звучала еле прикрытая зависть... Но ведь Эдик Ружский сделал бы эту работу не хуже. Даже лучше сделал бы, если говорить честно (а когда говорить с самим собой честно, если не сейчас?). Корнелий тогда выхватил заявку на проект у Эдика из-под носа, и все говорили, что сделано было чисто. Но при чем здесь польза для цивилизации? И вообще, нужно ли цивилизации рекламное дело?
Реклама служит радостям. Может, смысл бытия в радостях? Что ж, их, радостей, кажется, хватало. Но... если опять же честно разобраться, разве были они полными, без оглядки? За каждой прятался страх. Страх, что эта радость может оказаться непрочной, что завтра станет хуже, чем сегодня, что шеф вернет его эскизы и предпочтет эскизы Рибалтера или Ружского; что не хватит гонорара для очередного взноса за дом; что опять вызовут в уланские казармы; что на обязательном медосмотре обнаружат что-нибудь такое (после веселого отпуска на Островах, вдали от Клавдии); что вот уже и за сорок, и время летит все быстрее и почему-то стало невпопад, незнакомо перестукивать порой сердце...
Ну, а с другой стороны, кто живет без страха? Без него — никуда. Страх — регулятор всей жизни. Везде и всегда. Недаром же мудрая Машина заменила все наказания прошлых эпох на одно: на штрафную электронную лотерею, где главное — страх смерти. Иногда крошечный. Иногда оглушающий, доводящий до паралича — если шанс гибели велик... Но вот ведь и самый крошечный шанс привел Корнелия сюда... И теперь Корнелий сполна пьет чашу наказания страхом. Именно страхом, потому что сама смерть что? Тьфу. "Ляжешь на диванчик, и бай-бай..." Так вроде бы выразился этот инспектор? Альбин его, кажется, зовут. Подходящее имя для такого альбиноса... Но подожди, Корнелий, не вертись, не прячь морду под мышку. Ты же знаешь, что это имя застряло в памяти по другой причине...
Может быть, здесь знак судьбы? Знак отмщения? В том, что этого человека, призванного отнять у Корнелия жизнь, тоже зовут Альбин?
Господи, чушь какая! Слюнявое "розовое" детство, тридцать лет прошло. И нисколько не похож этот Альбин на того... Скорее он похож на Клапана, который был преданным адъютантом Пальчика, — с такими же белесыми ресницами и стертым лицом... И не будет этот нынешний Альбин лишать Корнелия жизни, на то есть специальный исполнитель, который должен появиться в понедельник... и "бай-бай"...
И Корнелий обессиленно провалился в глубокий, как черная шахта, сон.
Видимо, измученный мозг спасительно выключился на несколько часов. Когда Корнелий очнулся, по цвету неба и освещению листьев за окном он понял, что день перевалил за половину.
На столе поблескивали судки — значит, Гаргуш принес обед, но будить Корнелия не стал.
Корнелий сел, поматывая головой. Прислушался к себе. Внутри сидела тупая несильная тоска. Почти без боязни.
"Психика примиряется с неизбежным", — с кислой усмешкой сказал себе Корнелий. Шагнул к столу, приподнял на судке крышку. Пахнуло теплым варевом. Он вздрогнул: противно. В большой никелированной кружке оказался холодный компот. Корнелий поглотал его, чтобы забить во рту запах наволочного полотна. Компот был хорош, но тут же опять замутило.
Корнелий сбросил на кровать мятый пиджак и галстук. Вышел в коридор, отыскал туалет. Потом прошел на тюремный двор.
Двор был патриархальным. Трава, песочные дорожки, тополя, клены с разлапистыми листьями. Высокие сорняки у каменного, с облезшей побелкой забора. Там же — груда пустых дощатых ящиков. Словно приглашение: взбирайся, прыгай через забор и — на волю.
Корнелий сел прямо в траву, вытянул ноги, прислонился к нижнему ящику. Голова была ясна, но сил — никаких. Не хотелось двигаться. Корнелий запрокинул лицо. Небо в зените светилось чистой голубизной, не чувствовалось в нем вчерашнего зноя. Медленно меняя форму, двигались облака: светло-желтые, легкие, с пушистыми краями. Была в них такая отрешенность, несвязанность с земной человеческой жизнью, что на Корнелия снизошло спокойствие. Этакое понимание истины, что все "суета сует". И сидел он так долго-долго, почти бездумно. Желал только, чтобы никогда это не кончилось.
Изредка пролетали над ним желтые и белые бабочки, а выше носились ласточки.
Через бесконечное время раздались шаги, и сбоку откуда-то появился, навис Гаргуш...
— Тут такое дело... господин Глас. Господин старший инспектор спрашивали: если надо священника, то можно сделать заявку. Только скажите, по какой вере и когда. Можно на завтра или на послезавтра утром.
Возвращаясь с беззаботных небес на тюремный двор, Корнелий опять ощутил упругие толчки тошнотворного ужаса. И, надеясь, что это кончится с уходом Гаргуша, быстро сказал:
— Нет, не надо, спасибо.
Тот переступил громадными ботинками, от которых пахло натуральной кислой кожей.
— Не верите, выходит, в царствие небесное?
— А ты веришь? — с раздражением бросил Корнелий (странно: оказывается, он еще может чувствовать раздражение).
— А кто его знает... — Гаргуш медленно отошел.
Корнелий опять запрокинул голову. Он не верил в царствие небесное. И рад был бы сейчас, да поздно утешать себя сказками. К религии он относился... да, пожалуй, никак не относился. Отец был, кажется, полностью неверующий. Мать причисляла себя к какой-то общине. Кажется, "Братство евангелиста Марка". Лет до десяти водила Корнелия по праздникам в сумрачный собор, где мерцали россыпи свечек. У Корнелия осталось в памяти ощущение зябкости и страха, что вот опять придется по команде священника вставать на колени. Мелкий узор очень холодных чугунных плит больно впечатывался в пухлые коленки, а мать шепотом говорила: "Не егози..." Потом она в своем "Братстве" поссорилась с другими дамами из-за толкования каких-то апокрифических Евангелий и перестала посещать храм. На этом и кончилось приобщение юного Корнелия Гласа к основам вероучения. Далее он жил, не размышляя всерьез, что было сперва: идея или материя? Есть где-нибудь во Вселенной Бог или нет? Ибо решение этой проблемы никак практически не влияло на жизненные интересы Корнелия — ни в детстве, ни в зрелом возрасте.
И уж тем более не могло оно повлиять сейчас — в оставшиеся часы земного бытия Корнелия Гласа из Руты.
Корнелий сидел в траве у ящиков, пока солнце не ушло за тюремный забор. Потом встал, подержался за окаменевшую поясницу и побрел в камеру. Просто так, ни за чем. Скорее всего, машинально подчиняясь заведенному в жизни порядку: ночь надо проводить в постели.
В окне было еще светло, но под потолком горела яркая лампочка. Блестели на столе судки — уже другие. Видимо, исполнительный Гаргуш (или кто другой) убрал несъеденный обед и принес ужин. Сервис...
Корнелий хотел упасть лицом в подушку, но память о запахе казенного полотна удержала его. Он сел, низко опустил голову и охватил затылок. И сидел опять долго-долго. Мысли были отрывочны. Какие-то клочки на темно-сером фоне уже привычной тоски и обреченности. Почему-то вспоминался то и дело старший штатт-капрал Дуго Лобман. "Гос-спода интеллигенты, р-равняйсь!.. Муниципальная милиция — это почти что армия! Здесь не ваши балдежные штатские правила, а у... что?.. став! У-став! Смир-р... ны! Десять кругов бегом по плацу... подтянули животики... марш!"
Корнелий помотал головой. Надежда, что придает усталость и забытье, оказалась напрасной. Он выспался днем. И теперь, судя по всему, предстояла бессонная ночь. Корнелий содрогнулся. Резко встал. Опять вышел во двор. В небе таял неяркий послезакатный свет. Одиноко торчал месяц — голый и беспомощный, как мальчишка-новобранец перед призывной комиссией. Где-то за стеной раздались и смолкли детские голоса. Пахло остывающей травой. Далеко-далеко, в другом мире, монотонно шумел город.
Стукнула дверь конторы, кто-то сошел с крыльца. А, инспектор. Неровными шагами он побрел через двор. Остановился недалеко от Корнелия.
— Что? Не спится, видать?
Корнелий промолчал.
— Оно понятно. — Старший инспектор Мук был явно под хмельком. И уходить, кажется, не собирался. Вот скотина.
Вздохнув и потоптавшись, инспектор Мук вдруг попросил:
— Слышь, может, пойдем посидим, а?
— Куда? — устало удивился Корнелий.
— Ну... ко мне. Я сейчас один тут. Всех распустил к чертовой матери, даже внешний пост. Совмещаю должности, так сказать, у нас разрешается. Деньги-то нужны, жена поедом ест, что до сих пор в долгах, с самой свадьбы... Вот и торчу здесь круглыми сутками, тоска... А тебе тоже чего одному-то?
Несмотря на всю дикость положения, Корнелий на миг ощутил какое-то превосходство над инспектором. Даже ухмыльнулся:
— А что ты можешь предложить для веселья?
— Две бутылки "Изумруда", — с готовностью отозвался инспектор. — И банка морской капусты, чтобы зажевать. Посидим, а? Понимаешь, муторно одному.
Это было все-таки лучше, чем бессонная ночь в камере. И... забавно даже. Кроме того, с помощью "Изумруда" нетрудно отшибить себе надолго память. Что и требуется...
— Пойдем... верный страж мой, — опять ухмыльнулся Корнелий.
Теперь стол инспектора не был пуст. На нем светилась совершенно нелепая здесь бронзовая лампа с завитками и желтым фарфоровым абажуром — "ретро". Поблескивали зеленью две трехгранные бутылки (одна уже початая), раскупоренная консервная банка, два тонких стакана. Инспектор подтащил из угла тяжелый конторский стул с вертящимся сиденьем — для Корнелия.
— Ты садись. Я понимаю, тебе, конечно, пакостно, да что делать-то. Все едино. И мне вот тоже. Давай!
Он сковырнул со стакана соринку, торопливо налил себе и Корнелию.
— Ну, будем... — Он резко вылил в себя зеленую жидкость.
Корнелий помедлил секунду, сделал то же. Горячая волна прошла по пищеводу. Инспектор хватал пальцами лиловую лапшу морской капусты. Чавкая, сказал Корнелию:
— Ты давай дергай руками, вилок-то нет. — Потом он размягченно отвалился к спинке стула. — Ну вот, полегчало малость... Тебя вроде бы Корнелием звать?.. А меня — Альбин.
— Слышал, — хмуро сказал Корнелий. — Знаю.
И подумал опять: "А может, знак судьбы?"
Они выпили еще. Альбин, крепко хмелея, начал говорить, что "кантуется" он здесь не только из-за денег, но и потому, что "дома хоть в петлю лезь, баба взбеленилась, поедом ест и жизни никакой...".
Корнелий ощущал теплую успокоенность. Соблюдая этикет, он глядел в белесое лицо Альбина и время от времени кивал. И кажется, даже улавливал смысл. Но это работала лишь частичка его мозга. А главное сознание Корнелия было не здесь. Все глубже и глубже уходил он памятью в давнюю пору. Вернее, что-то властно уводило его. Туда, где было Корнелию Гласу одиннадцать лет...
...Того мальчишку тоже звали Альбин.