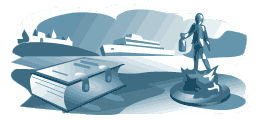ПАРОХОД "АДМИРАЛ НАХИМОВ"
Он примчался через пять минут. Весело запыхавшийся и немного виноватый.
– Здравствуй... Но у меня, к сожалению, только негативная информация. У нас дома "Географический энциклопедический словарь", там все названия. Но мыса Святого Ильи там нет...
– Ну, нет так нет. – Сейчас письмо Никиты Таирова волновало Кинтеля гораздо меньше, чем вчера. – Ты сядь и отдышись. А то будто за тобой племя ирокезов гналось...
Салазкин послушно засмеялся. Сбросил у порога кроссовки, прошел в комнату, присел на стул. Вздохнул:
– Там, в словаре, есть только горы Святого Ильи. В Кордильерах...
– Далековато, – сказал Кинтель. – Если уж искать, то поближе... Тебе дома не попадет за то, что пошел ко мне?
– Еще ведь не поздно.
Было около семи, в окно сквозь ветки светило совсем низкое оранжевое солнце.
– А я почти весь день "Устав" читал. Но целиком его не осилить. Это уж, наверно, только историки могут...
– Папа говорит, что там есть очень любопытные места. Даже перекликаются с современностью. Например, про борьбу с бюрократами...
– Давай ты сегодня книгу отнесешь домой. А то у отца небось на душе кошки скребут...
– Да ничего подобного!
– Ну, все равно пора возвращать. Я тебя провожу.
– И обязательно зайдем к нам!
– Вот уж фигушки!
Салазкин, глядя в пол, тихо сказал:
– Папа очень просил зайти. И мама...
– Ну вот! На кой это...
Не поднимая головы, Салазкин глянул сквозь волосы:
– Но ведь нельзя же так... Надо же как-то, чтобы все по-хорошему. Раз уж мы... познакомились...
"И надо сказать профессору спасибо за книгу, – подумал Кинтель. – А то свинство получается..."
– Ладно... Только учти: я на минутку...
Салазкин радостно подскочил:
– Да ты не бойся, маме сейчас не до тебя! И не до меня! Потому что такое семейное потрясение: Соня и Зоя в Москве разом замуж собрались. Они же все вместе делают, одинаково! И даже обоих женихов зовут Сергеями! Мама в трансе...
– Потому что оба Сергеи? – усмехнулся Кинтель.
– Вообще... Все четверо студенты, жить-то где? В общежитии? Масса проблем...
Профессора Денисова не оказалось дома. А с матерью Салазкина встреча получилась (к великому облегчению Кинтеля) без всяких лишних сложностей. Та прямо у двери быстро взяла закаменевшего Кинтеля за плечи, наклонилась:
– Даня! Вот и славно, что пришел. Я знаю, ты на меня тогда обиделся. Ну и правильно обиделся! Только ты меня пойми, я за Санчика так дрожу. Столько всего кругом, каждый день сообщения о всяких жутких случаях... С дочками-то меньше забот было, они всегда друг с другом. А с этим постоянно всякие истории...
– Это с ними сейчас истории, – весело напомнил Салазкин. – Я-то жениться пока не собираюсь...
– Ох, не жизнь, а кошмар... – Мать Салазкина смешно, как бабушка, всплеснула руками.
От нее слегка пахло духами и кремом и еще чем-то хорошим таким, домашним. Как давным-давно, в почти забытые времена, пахли в шкафу мамины платья. Мама уехала, а платья почему-то остались. И Кинтель, крошечный совсем, когда оставался один, открывал шкаф, зарывался в платья лицом и вспоминал. И почему-то очень боялся, что кто-нибудь увидит его в этот момент...
Он проговорил, глядя в плетеный половик:
– Я понимаю, конечно... Район незнакомый, люди тут всякие... Каждая мать за сына боится.
Ему очень хотелось, чтобы мама Салазкина поверила, что он понимает и не обижается. И она, кажется, поверила, по лицу видно. Тогда Кинтель сказал с облегчением:
– Вы передайте Александру Михайловичу большое спасибо за книгу. Я пойду, до свидания...
– Куда?! – хором сказали Салазкин и мать. И она добавила решительно: – Так в гости не приходят, без чая не отпущу! Тем более у нас на работе сегодня конфеты давали по заказу. "Кошкин дом" называются, вы, мальчики, таких и не видели...
Вот этого Кинтель боялся больше всего! Чаепития и всякого светского общения. И вдруг обрадованно вспомнил:
– Ой, да я же телевизор не выключил! Звук убавил до отказа и забыл! Вот как полыхнет! Я побегу!..
– Я с тобой! Провожу! – подхватил Салазкин.
– Только недолго! – всполошилась мать.
– Мы еще погуляем потом! – решительно заявил Салазкин.
– На ночь глядя?.. Тогда возьмите Ричарда! Ему тоже гулять надо.
Через минуту они мчались по освещенной закатом улице Достоевского. Салазкин крикнул на бегу:
– Ничего не будет! Черно-белые загораются очень редко!
– Кто его знает? Он один раз уже дымил!..
А спущенный с поводка Ричард был счастлив. Он мчался рядом и дурашливо хватал то Салазкина, то Кинтеля за штанины.
Когда ворвались в квартиру, старенький "Фотон" мирно и бесшумно мерцал экраном. Кинтель с облегчением повалился на тахту. Салазкин бухнулся в скрипучее кресло. Ричард обошел квартиру, обнюхал мебель и выжидательно уселся у дверей.
– Фу-у, – выдохнул Кинтель. – А я уж думал, полыхает наш памятник архитектуры... Знаешь, Санки, этому дому двести лет.
– С ума сойти! Привидений здесь нет?
– Домовой, говорят, есть. У соседей на первом этаже...
Ричард у дверей тихонько поскулил, напомнил о себе...
– Не нагулялся, – сказал Салазкин. – Может, выключим телевизор и побродим?
– Ага... Сейчас, отдышусь маленько...
На экране шла программа Российского ТВ. Опять (который раз!) показывали горящие танки, потом митинг, потом – как снимают краном с постамента памятник Дзержинскому.
Салазкин тихо проговорил:
– А Павлика Морозова тоже сняли. И бросили у забора...
Кинтель сел:
– Когда? Он же совсем недавно стоял, помнишь?
– Да... А сегодня у нас было всего два урока, и я поехал на Калужскую, к Корнеичу. Надо было про одно дело спросить... А сад-то с памятником как раз на полпути. Обратного трамвая долго не было, я пошел пешком. Когда проходил мимо сада, глянул вдоль аллеи, а памятника нет. Постамент пустой... Я подошел, оглянулся, а потом вижу, он в сорняках...
– Ну что за сволочи, – шепотом выговорил Кинтель. – Скидывали бы памятники, которые себе ставили. То есть взрослым. А пацанов-то чего трогать...
– Мне... как-то не по себе стало. Знаешь, Даня, будто его... расстреляли и бросили...
"И наверно, из того окна это видно", – подумал Кинтель. Он встал. Попросил нерешительно:
– Может, съездим посмотрим? Это ведь недалеко...
Зачем такое нужно, он не смог бы объяснить. Но Салазкин и не спрашивал.
– Конечно! Пошли.
Им повезло: "двадцатка" подкатила к остановке как по заказу. И в вагоне было свободно, никто не заругался, что едут с собакой. Когда подъехали к саду, уже начинали густеть сумерки. Постамент, где раньше стоял щуплый непокорный мальчишка, был пуст.
– Пойдем, – шепотом сказал Салазкин. И повел Кинтеля сквозь лопухи. Листья громко шуршали по одежде. Ричард шастал в окрестных кустах.
Сквер был отгорожен от внутренних дворов квартала ветхим забором. Вдоль забора тянулась полоса частого кустарника, за ней стоял высокий бурьян. В ней и лежал сброшенный с постамента Павлик.
Было еще не совсем темно, можно разглядеть...
Он лежал лицом вниз. Теперь, на земле, видно было, что фигура крупнее детской, ростом со взрослого мужчину (это на постаменте она казалась маленькой). Но все равно было понятно, что это мальчик. По-детски лохматились на затылке волосы, тонкие щиколотки босых ног беззащитно высовывались из потрепанных штанов. Ступни по-прежнему упирались в квадратную площадку. Из нее с другой стороны торчали четыре штыря.
Бронзовые мальчики падают не меняя позы. И кулаки опущенных вдоль тела рук были, как и раньше, упрямо сжаты.
Несколько желтых, светящихся в сумерках листьев лежали на черной бронзе.
– Может быть, его лопухами закидать? – нерешительно предложил Кинтель. Он опять чувствовал себя так, будто в чем-то виноват.
– Давай, – согласился Салазкин.
Лопухи были вялые, мягкие, как тряпки. Их по-надобилось много, рвали долго, вдоль всего забора. Укрыли...
– Все равно это не выход, – прошептал Салазкин. – Уж тогда лучше закопать бы... раз он никому не нужен.
– Где? Здесь не дадут... Набегут, заголосят: что делаете, кто разрешил?! Да и копать сколько...
– И как-то жалко закапывать. Будто живого хоронить... Лучше уж вот что! Опустить в озеро! Пусть стоит на дне, не падает... И солнце там сквозь воду светит... Надо приехать в темноте на грузовой машине, потом его на шлюпку – и на середину озера, где глубина...
– А где взять машину-то? И шлюпку...
– Это не проблема. Корнеич достанет. А вот если кран понадобится, это сложнее. Бронза, она ведь ужасно тяжелая.
– Может, не очень. Памятники обычно пустые внутри, – возразил Кинтель, по-прежнему чувствуя себя виноватым. – Наверно, получится и без крана, если ребят собрать. С нашего квартала можно пацанов пятна-дцать организовать.
– И у нас почти столько же, – отозвался Салазкин.
Ревнивая досада опять зашевелилась в Кинтеле.
– Это на Калужской, что ли? У Корнеича?
– Да! Там очень дружные люди.
"Подумаешь! Чего тогда вокруг меня крутишься?" Но обида была какая-то беспомощная, и у Кинтеля вы-рвалось:
– Рассказал бы хоть, что за люди! Что за Корнеич?
– Да, конечно! – звонко отозвался Салазкин. Будто ждал этого. – Пошли...
Они позвали Ричарда, выбрались через заросли на аллею. Но пошли не туда, где трамвай, а в другую сторону: где калитка и та самая скамейка. Кинтель – машинально, по привычке. А Салазкин решил, видимо, что так надо. Он сказал:
– Корнеич, это... в общем, в детстве он был в отряде, который назывался "Эспада". Не такой пионерский отряд, как в школе, а сам по себе. Они там много чего делали. Фильмы снимали, яхты строили сами, в походы на них ходили. Фехтованием занимались... А главное, всегда были друг за дружку... Ну, потому что там всё добровольно, никто ведь в эту "Эспаду" не загонял насильно, как в школьную дружину... И был он там до десятого класса. А потом стал поступать в архитектурный институт, но не поступил, скоро его забрали в армию. В Афганистан...
Они шли медленно, листья шуршали под ногами. Ричард присмирел и послушно шагал между хозяином и его новым другом. Салазкин сказал сбивчиво:
– А там он... в общем, насмотрелся на всякое. Он обычно разговорчивый, но про это говорить не любит... И когда приехал... Знаешь, говорят, такое было со многими: все из рук валится, ничего в жизни не получается, каждый день мысли про то, что было. Какая там кровь, сколько людей погибло. И наших, и афганцев... Ну, он тогда тоже пил отчаянно...
– Почему "тоже"? – дернулся Кинтель.
Салазкин глянул чуть испуганно:
– Ну... я же говорю, так у многих было...
"Дурак", – сказал себе Кинтель. И спросил хмуро:
– Сейчас-то завязал?
– Да! Его выручил товарищ по отряду, он постарше был. Он археолог. Взял с собой в экспедицию, в Херсонес, это под Севастополем. Потом устроил работать в мастерские при краеведческом музее – у Корнеича руки-то золотые... Познакомил его с редакцией "Молодежной смены". А потом говорит: "Ты же капитан, Данила, собирай-ка ребят снова..."
– Как это – капитан?
– Это не по-военному, а такое звание было в "Эспаде"... Только "Эспады" тогда уже не было, их к тому времени из помещения выгнали, яхты сделались старые, гнили на пристани... И вот этот друг, Сергей Каховский его зовут, говорит: "Собрал бы ты ребят, столько хорошего народа ходит без дела..." Ну, у Корнеича старое в душе зашевелилось... Он сам так говорит – "старое зашевелилось"... Созвал с разных улиц ребят, выпросили они пустой подвал у начальства, отремонтировали два парусника. Снова получился отряд. Уже не "Эспада", а новый. Но все равно хороший. И Корнеич во все эти дела влез с головой... Только это все было, когда я еще его не знал. А когда познакомились, отряду в то время опять не везло...
– Почему?
– Потому что подвал отобрали, он какому-то кооперативу понадобился. У кооператива деньги, а у Корнеича что? Он и так ползарплаты на отряд выкладывал, но разве на аренду этого хватит? А еще яхты совсем развалились. А чтобы новые делать, тоже деньги нужны. И стройматериал. И помещение...
Салазкин говорил с непривычной деловитостью. Видать, эти дела давно заботили его.
– Да и Корнеичу труднее. Он теперь на заочном учится, а еще дела в газете, в комиссии Детфонда...
– Он что, так и кидается по всякому сигналу "Добрый день"? – спросил Кинтель. Потому что из рассказа было уже в основном ясно, какой человек Даниил Вострецов, Корнеич.
– На всякий не успеть, – вздохнул Салазкин. – Он ведь и так рвется на части. В прошлом году к тому же сын родился у них с Таней. Таня – это жена его, тоже из "Эспады"... И такая была история! Она только из роддома, а его – в больницу. Обострение с ногой... Ты ведь, наверно, и не заметил, что у него протез вместо левой ноги?..
– Да?! А на мотике гоняет как рокер...
– Он еще и не такое может... Всяким приемам учил. И фехтованию. У него до армии первый разряд по шпаге был...
– А ногу... там, в Афгане, да?
– Да... Он сам про это неохотно вспоминает, но ребята все равно знают. Ему ее раздробило осколками, а он все равно отстреливался. Прикрывал отход... Его потом вытащили без сознания. Из развалин.
"А зачем ты мне такие подробности рассказываешь? Будто все без оглядки выкладываешь!" Это опять шевельнулась непонятная обида и подозрительность. Кинтель проговорил, набычившись:
– Наверно, Корнеич твой не обрадовался бы, если бы узнал, что ты... вот так про него все излагаешь постороннему.
– Ну почему же?! У него от ребят секретов нет.
– Так это же от своих ребят...
И тогда Салазкин сказал:
– Даня... Корнеич спрашивал: может быть, ты зайдешь к нему? Вместе со мной...
– Зачем?
– Ну... ты же интересуешься всем, что про море... Помнишь, на теплоходе? А у нас тоже... Может быть, наберем фанеры к весне, будем строить шхуну.
– Без меня, что ли, не справитесь? – буркнул Кинтель.
Помолчали. Только листья швырк-швырк под но-гами.
Салазкин вполголоса спросил:
– Ты на что-то обиделся, да?
"Господи, да что это со мной? Будто не с Салазкиным, а с Дианой говорю..."
Кинтель сказал быстро и нарочито бодро:
– Нет, что ты! Просто... перепады настроения. Бывают в переходном возрасте.
Салазкина успокоило это скрытое извинение. Он потрепал по загривку Ричарда.
Они подошли к скамейке. Дом за изгородью, на улице П. Морозова, светился окнами. И то окно светилось. Кинтель зацепился за него глазами, попросил:
– Давай посидим чуть-чуть.
Салазкин послушно сел. Ричард положил ему морду на колени. Кинтель тоже сел. Окно было теплым, розовато-желтым. Салазкин деликатно молчал, как молчат рядом с чужой тайной.
Чтобы Салазкину не показалось, будто здесь что-то особенное, Кинтель спросил:
– А те старые яхты... их теперь уже никак не починить?
– Легче построить новые. Потому что обшивка вся прогнила, рыхлая такая. Стукнешь пяткой – и насквозь. Сразу целое кораблекрушение... – И Салазкин виновато притих: спохватился, что сказал ненужное слово.
Тогда, откинувшись на спинку скамьи, Кинтель ровно спросил:
– Ты ведь слышал про пароход "Адмирал Нахимов"?
– Да... ты же говорил недавно. Я понимаю...
– Про него много писали.
– Да, – приободрился Салазкин. – Еще и недавно в "Комсомолке" статья была. Кто-то считает, что это не случайная гибель, а заговор. Чтобы какие-то документы уничтожить...
– Я не про то... – тихо возразил Кинтель.
Зачем он об этом? Чтобы такой вот откровенностью доказать Салазкину, что нет никакой обиды? Или... надежда гаснет, если долго прячешь ее в себе, не поделишься ни с кем?
А с кем можно поделиться, кроме Салазкина? Даже с дедом нельзя...
– Мать погибла на "Нахимове", – сказал он одними губами, не отрывая глаз от окна. – Так они говорят...
И тоже еле слышно Салазкин спросил:
– Кто "они"?
– Все... Отец, дед. Мол, поплыла с кем-то отдыхать, и вот... Она тогда с нами давно уже не жила и со мной не виделась. По-моему, ко мне ее специально не пускали, а мне говорили "далеко уехала". А потом я узнал, что она... сильно пила... Санки, это я только тебе... Ты никому...
– Я клянусь. – Салазкин проговорил это без всякой торжественности, вполголоса. И ясно сразу – это он железно.
– А потом сказали: утонула... А в прошлом году, как раз после теплохода, я иду по улице и вижу: навстречу женщина... Я... маму плохо помню, фотоснимок только один сохранился, и на нем она совсем молодая. И к тому же у меня память на лица плохая. Но тут я... как будто меня примагнитило. Лицо такое – вроде и знакомое, и... ну как будто долго болела она. А может, и от этого... ну, если пила, а потом лечилась... А тут к ней какая-то тетка подходит, окликает: "Надежда Яковлевна..." – Кинтель кашлянул, замолчал.
– Так твою маму зовут, да? – шепотом спросил Салазкин. И Кинтеля накрыло теплом от этого "зовут", а не "звали"...
– Я подумал: может, они все нарочно мне врут... про "Нахимова". Чтобы я не вспоминал и не встречался... А она тоже... наверно, решила: "Раз я такая, зачем я ему?" То есть мне...
– Она там живет? – Салазкин тоже посмотрел на окно.
– Да... Одна. Я тогда за ней пошел незаметно, а потом про нее у здешних девчонок выведал... Знаешь, никто и не видел ее пьяной. Только всегда одинокая и будто больная... Она сюда прошлой весной переехала, квартиру обменяла... Говорят, машинисткой работает...
– Даня... А может, пойти к ней и выяснить?
"Ты с ума сошел?! А если это не она? Сейчас-то хоть надежда есть..."
Салазкин понял. Виновато посопел.
Кинтель сказал:
– Мне ведь ничего от нее не надо. Только знать, что она есть... А когда вырасту, там видно будет. Может... я ее к себе возьму... Может, она меня не совсем позабыла.
Салазкин оттолкнул Ричарда, сел к Кинтелю вплотную. Плечо к плечу. Подышал тихонько, потом очень серьезно посоветовал:
– Пошли ей открытку.
– Ты что?!
– Напиши не про себя, а так. Ну, поздравление с каким-нибудь праздником. Просто чтобы она знала, что ты ее помнишь.
– А если... – Он заставил сказать себе самое плохое: – Если я... ошибаюсь?
– Ты не подписывайся. Просто: "Мама, я тебя поздравляю..." Если что не так, ну и ладно. Она решит, что кто-то ошибся.
– Я... не знаю. Я боюсь, Санки...
– Ты подумай. Это можно ведь и не сейчас. А... когда решишь.
– Ага. Я подумаю...
По светящейся шторе скользнула тень: кто-то прошел там по комнате. Кинтель подождал, потом поднял глаза выше дома. Над крышей, у антенны, переливалась белая звезда. Яркая такая, живая. Потом рядом проклюнулась еще одна.
А если глянуть совсем вверх, то вон их уже сколько блестит среди еще не облетевших листьев...