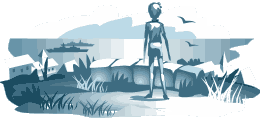Вечерние игры
Улица Генерала Петрова пересекает Шестую Бастионную как раз посредине, на горе, в Артиллерийской слободке. Перекресток здесь широкий. Это маленькая площадь. Каменистая, с небольшими островками зелени. С будкой, на которой ржавеет вывеска “Керосин”. С магазинчиком на углу. Здесь я покупаю на ужин маринованные оливки и очень мягкий хлеб.
Я часто брожу по слободке. Эти места у меня самые любимые.
Лучше всего здесь бродить вечером, когда солнце уже нырнуло в море, а в травяных зарослях пробуют свою музыку цикады (или ночные кузнечики, или сверчки — их по-всякому называют). Они дают пока не сильные и не длинные трели. Словно сказочные стеклянные самолетики в траве начинают прокручивать перед взлетом крошечные моторы...
Почти всегда улочки выводят меня на ту маленькую площадь. С одного края у нее — лестничная площадка. По лестнице улица Генерала Петрова спускается к шоссе, бегущему в Херсонес, к древним развалинам и раскопкам. А Шестая Бастионная тянется вдоль пологого верха горы дальше, к Катерной, где на углу до сих пор стоит оборонительная башня бастиона...
Если встать на парапет лестницы, увидишь берег Херсонеса с разрушенным храмом, а дальше — небоскребы нового района у Камышовой бухты. А над берегами, над развалинами и небоскребами — громадное светлое море И закат.
Закат бросает бронзовые отсветы на Городской холм — на белые дома, на зелень, на купол Владимирского собора. Яблоко и крест над куполом загораются золотым огнем. Этот огонь виден в море издалека. Недаром собор отмечен в лоциях и на морских картах как знак для судоводителей...
Все мне здесь знакомо-знакомо. И эти улицы вдали на холме, и эта кремнистая площадь, и эта лестница, и дворик рядом с ней — там, на плоском сарайчике, всегда лежит перевернутый корпус маленькой яхты. И запахи ласкового южного сентября, и стеклянные трели цикад, и голоса мальчишек — здесь, на площади, и в ближних переулках.
Мальчишки играют. Недавно прошел на телеэкранах трехсерийный фильм “Д’Артаньян и три мушкетера”, и сейчас во дворах, на пустырях и перекрестках стучат деревянные шпаги. Их частый, неравномерный стук перемешивается с веселой перекличкой и боевыми командами, горячим дыханием бойцов и цоканьем подошв по камням. Это тоже очень знакомо. Это было всегда.
Мимо промчался пацаненок лет девяти. Смугло-золотой от загара и заката. Распахнутая голубая рубашка летела у него за спиной, как мушкетерский плащ, не хватало только вышитых серебряными нитками крестов и лилий. В каждой руке мальчишка держал по деревянному мечу. Один — за рукоять, второй — за средину клинка. Наверно, этот второй меч он спешил отнести товарищу.
Мальчик проскочил так близко, что мне приподняло ветром волосы. И я на миг ощутил запах свежеоструганной древесины. И даже успел разглядеть оружие: янтарные сосновые волокна вдоль клинков, прибитую гвоздем перекладину у рукоятки, грубовато выструганный эфес... И сразу память толчком подбросила давнее-давнее ощущение — как прикасается ладонь к деревянной рукояти, которую только что обработал кухонным ножом. Как сжимают эту рукоять пальцы. Как переносится на мышцы предплечья увесистость вытесанного из доски клинка. Ж-жих! — и валится у забора срезанный под корень куст чертополоха. А в дальнем конце двора, у сараев и похожих на крепости поленниц, уже нетерпеливо окликают меня мальчишки — мои приятели с улицы Герцена...
Я вглядываюсь в память, как в глубокое темноватое зеркало, и вижу себя — четвероклассника послевоенных сороковых годов из городка Тюмени, что стоит на полынных и глинистых берегах Туры. Отчетливо вижу, от макушки до пяток.
На макушке — сатиновая тюбетейка. Когда-то она была бордовая, а сейчас от солнца и дождей стала светло-рыжая. Жиденький вышитый узор на ней совершенно поблек, из него торчат нитки. Тюбетейка закрывает лишь темя. Отросшая челка (к августу—выгоревшая до полной белизны) лежит на расцарапанном лбу. Кожа на оттопыренных ушах много раз облезала от солнечного ожога и теперь покрывает их прочным слоем, напоминающим тонкую древесную кору. Похожая на коричневую резиновую трубку шея торчит из ворота ковбойки — рубашки в мелкую красно-желтую клетку.
Сейчас многие думают, что ковбойка — это просто клетчатая рубашка. Но в те времена у настоящих ковбоек обязательно были большие накладные карманы с клапанами и — главное — особый воротник. Его уголки пристегивались пуговками. И не только спереди. Сзади тоже был острый уголок и тоже пристегивался. Это было красиво и удобно во всех случаях, кроме одного — когда надо идти в школу и надевать галстук. Сквозь него воротник сзади не пристегнешь. Правда, мой одноклассник Мишка Маслов однажды сделал в галстуке прорез: для пуговки. Но это новшество заметила вожатая Рита и устроила Мишке вполне справедливый нагоняй...
Я свою ковбойку очень любил. После нескольких дней уличных похождений она становилась мятой и перемазанной, и я нетерпеливо танцевал рядом с мамой во время стирки. И потом натягивал ковбойку снова — прямо на голое тело, — удивительно свежую, еще горячую от утюга...
Я продолжал любить ее даже тогда, когда мой дядюшка — дядя Боря, живший на улице Герцена, в проходной комнатушке флигеля, — разочаровал меня. Он объяснил, что надо писать не “кавбойка”, а “ковбойка”. Я сперва заспорил, я был уверен; что это название происходит от слова “кавбой” — то есть “кавалерийский боец”. Мне почему-то казалось, что так назывались конники во время Гражданской войны в Соединенных Штатах, когда северяне дрались за свободу негров. Но дядя Боря разъяснил, что “ковбой” по-нашему значит “коровий парень”, то есть пастух коровьих стад в широкой прерии американского Дикого Запада.
Ну, пастух так пастух. И я энергично запихал подол ковбойки под брезентовый солдатский ремешок, которым подпоясывал штаны из рыжего потертого вельвета.
Штаны подобной конструкции тогда носил чуть ли не каждый второй мальчишка. Просторные, с глубокими карманами, не длинные и не короткие, а такие, что полагалось застегивать под коленками. Обычно никто их не застегивал, и манжеты с нитками на месте оторванных пуговиц болтались на искусанных комарами и расчесанных икрах, над сандалиями с пятью дырочками и тонким поперечным ремешком. Эти сандалии с протертыми насквозь подошвами —стоптанные, пыльно-бесцветные и невесомые — были “всегдашними спутниками нашей летней жизни. Впрочем, иногда мы сбрасывали их, чтобы побегать босиком. И от поперечных ремешков оставались полоски светлой кожи, они почему-то долго не загорали...
Я подумал, что если бы я сейчас появился на Шестой -Бастионной в своем тогдашнем виде — в тюбетейке на стриженой макушке, в ковбойке и растрепанных вельветовых ; штанах устаревшего образца, — то, пожалуй, очень выделялся бы среди теперешних ребят. Но одно у нас было абсолютно одинаковым — деревянное оружие.
В те давние годы тоже шли фильмы про мушкетеров. Трофейные. Сняты они были в разных странах, а взяты во время войны на немецких складах. Многие мальчишки, да и взрослые тоже, напевали тогда и насвистывали песенку д'Артаньяна:
О, Вар-вар-вар-вар-вара,
Приехал я в Париж,
Поэтами воспетый
От погребов до крыш!
Или что-то в этом роде.
Нас немного смущало, что мушкетерами в этой кинокомедии оказались переодетые повара, и что в конце картины они бесславно улизнули из мушкетерского строя. Но д'Артаньян был настоящий, и его подвиги тоже были настоящие. А что касается настоящих Атоса, Портоса и Арамиса, то мы знали: про них есть толстая книга. Правда, книгу эту никто из нас не видел. Она была легендой. Вроде легенд о подземном ходе на берегу Туры или о предстоящей отмене переводных экзаменов в четвертых и пятых классах. По крайней мере, мы верили и в то, и в другое, и в третье. Изредка возникали слухи, что пухлый том “Мушкетеров” сейчас есть у некоего Витьки Лопухина, по прозвищу Буся, или у Вовки Шинкарева — одноклассника Вовчика Сизова (у которого велосипед “Диамант”). Но даже “сильные мира сего”, такие, как девятиклассник Валька Сидор или мой бывший сосед Лешка Шалимов, не могли добыть эту книгу хотя бы на день.
Однако мушкетерские легенды жили. И очередной фильм из времен Людовиков Тринадцатого и Четырнадцатого заставлял их разгораться новым пламенем. И во дворах снова начинали стучать деревянные шпаги.
Были у нас и другие военные игры: в партизан, в разведчиков, в “штурм горы”. Игры с самодельными автоматами, гранатами и деревянными пистолетами ТТ. Но я вспоминаю сейчас бои и приключения, овеянные сенью летящих мушкетерских плащей. В них была особая романтика рыцарства и привкус постоянной тайны.
По какому-то не изученному еще закону природы такие игры начинаются всегда под вечер. Может быть, потому, что вечером исчезает дневная откровенность красок и в приглушенном свете старые сказки делаются ближе и реальнее.
Мы собирались в просторном дворе на улице Герцена, где прошло мое раннее детство. Теперь я жил не здесь, но прибегал сюда каждый день к дяде Боре и к старым приятелям: Вовке Покрасову, Тольке Петрову, Амиру Рашидову Двор был просторный, с травой и могучим тополем, с зарослями репейника и крапивы у заборов. Длинные поленницы в дальнем конце двора пахли лесом: грибной сыростью и смолой. К локтям и ладоням прилипала золотистая сосновая чешуя. Пергаментные полоски тонкой бересты шевелились под ветерком. От березовых поленьев на штанах оставались пятна, как от покрашенной мелом стенки
Приходило время, когда покрасневшее солнце повисало в конце улицы, пыль делалась рыжей и по этой пыли совсем по-деревенски брело с выпасов коровье стадо. Тоже в основном рыжее. Коровы тыкались мордами в старые калитки с железными кольцами. Потом из открытых сараев слышался звон молочных струек о подойники. (Сейчас мне напоминают этот звон крепнущие трели цикад). Во взрослой жизни наступал вечерний покой. А мушкетерская жизнь только начиналась.
Приходили знакомые мальчишки со всего квартала: из угловых домов, из “большой ограды” — громадного двора с двухэтажными деревянными домищами. Делились на мушкетеров и гвардейцев, будто на две команды для футбола: “Матки, матки, чей допрос: “Кинжал” или “Шпага”?” Потом договаривались, какая сегодня игра.
Мушкетерская жизнь полна разнообразных приключений, поэтому игры были тоже разные: то открытые схватки — шеренга на шеренгу, то взятие бастиона (все той же поленницы), то хитрые засады и погони, а в конце — опять лихая стычка...
Не помню, чтобы мы выбирали себе точные имена: кто Атос, кто Портос и так далее. Мало того, в горячке боя гвардейцы часто забывали, что они не мушкетеры, и самозабвенно орали: “Долой кардинашку!” Такое нарушение правил прощалось. Но были и незыблемые правила. Нельзя было нападать со спины. С боков можно, а со спины — ни в коем случае. Нельзя бить по ногам и по голове. Нарочно по рукам тоже нельзя. И когда попадало по пальцам, каждый знал: это случайность, обижаться не надо. Подуешь на пальцы, облизнешь ссадины на костяшках, иногда слезы сглотнешь — и снова в бой! До победы или пока не ткнут в грудь три раза. В этом случае спорить не полагалось: попало три раза — значит, убит. Иначе будет не игра, а сплошной крик и ругачка. Вообще-то, конечно, спорили, но не часто. Если уж казалось, что очень несправедливо тебя записали в убитые...
Играли мы и в “алмазные подвески”. Что это такое и как они выглядят, никто не знал. Мы их делали из граненых стеклянных пробок от графинов. Но пробок часто не хватало, и в ход шла всякая мелочь: костяшки от канцелярских счетов, гайки, большие пуговицы. Подвески разбирали себе гвардейцы. Каждый брал одну. Он подвешивал ее на тесемке к поясу, а то и просто совал в карман. Потом гвардейцы разбегались и прятались, а мушкетеры начинали поиски и погони.
Не было среди нас ни королевы Анны Австрийской, ни коварной миледи, ни зловещего Рошфора. Но король был. Он сидел на обрубке дерева у сарая, и ему приносили мушкетеры отбитые у гвардейцев подвески. Если подвесков набиралось больше половины, мушкетеры считались победителями. Если мушкетерское войско гибло в стычках и поединках, не набрав нужной добычи, победу торжествовали сторонники Ришелье.
Погони были долгие и хитрые — по всем окрестным улицам и закоулкам. Схватки — веселые и храбрые. Лишь король скучал на своем березовом троне. И чтобы не закиснуть совсем, он иногда по совместительству становился мушкетером.
...В тот вечер королем был Витька Пятигарев из большой ограды. Он сразу объявил, что не будет сидеть на пне и уходит с мушкетерами. А подвески пусть складывают в лунку перед “троном”. Этот-то Витька и настиг меня в тупичке между бревенчатой стеной сарая и забором.
— Сдавайся сразу, — предложил белобрысый Витька. Он был грузный парень, шире меня и сильнее в два раза. Однако я нахально показал ему язык. Я был гвардейцем по выпавшему жребию, но, естественно, мушкетером в душе. И вступил в бой. Витька был не очень-то поворотлив, я рассчитывал если не на победу, то хотя бы на то, что прорвусь к своим. Однако Витька первым же крепким ударом перешиб мою шпагу (а точнее, длинный сосновый меч). Клинок отлетел, и в ладони осталась только рукоять с перекладиной.
Я помню это жутковатое ощущение беззащитности перед противником. Пальцы по-прежнему сжимают рукоять, но ладонь уже не чувствует привычной тяжести клинка. Его нет! И я — открытый, беспомощный, прижатый к стенке...
Витька снисходительно посопел и сказал:
— Ну давай, гони сразу подвесок. Все равно я король. И тут меня осенило.
— Ура, наши! — заорал я так искренне, что Витька попался на этот дешевый крючок. Он вздрогнул и обернулся. Я подхватил с земли клинок, выбил им у обалдевшего Витьки шпагу и взлетел на забор, как петух, который спасается от супа. А с забора — на улицу.
Тут на меня сразу кинулись Амир и ловкий, вертлявый Вовка Третьяков. Сломанным мечом много не навоюешь, поэтому я ударился в бега, снова примчался во двор, а оттуда заскочил во флигель, к дяде Боре.
Вообще-то дома прятаться не полагалось. Но я успокоил себя тем, что здесь не живу и только прихожу к дяде Боре в гости.
Часто дыша, я влетел в узкую комнатушку. Здесь горело электричество, хотя на подоконнике еще лежали пятна вечернего солнца. Дяди Бори не было. То, что включен свет, ничего не значило. Комнатка была проходная, и лампочку в темноватой каморке зажигали все, кому не лень. Просто так, походя, и вечером, и днем, и даже когда дядя Боря спал.
А сейчас дядя Боря, скорее всего, был на вечернем представлении в цирке. Он очень любил цирк, особенно соревнования по французской борьбе. В те дни в цирке шли постоянные состязания борцов — такие же в точности, о каких писал в своих воспоминаниях Валентин Катаев и в книжке “Артемка в цирке” писатель Василенко. В комнатке дяди Бори висели цирковые афиши с громкими именами борцовских знаменитостей: Карелин, Хаджи-Мурат, Назарьян, Франк Гуд, Цепник... Мы все болели за мулата франка Гуда и за поджарого вежливого Назарьяна...
Но я отвлекся... В тот миг мне было не до цирка. Я с размаха влетел под кровать, вдохнул мелкую пыль и запах ржавой панцирной сетки и треснулся лбом об угол фанерного чемодана, в котором лежало почти все дяди Борино имущество.
За дверью слышались шаги и голоса. В любой миг мои противники могли ворваться сюда и вытянуть меня за ноги на свет божий. Что делать? Сам погибай, а подвесок спасай. Елозя животом на половицах, я отвязал от ремешка черную пешку на тесемке. Правила разрешали спрятать подвесок, если опасность близко. Только прятать можно было недалеко, рядом с собой, так, чтобы у противника все же была надежда отыскать его.
Перед моим носом темнела стенка чемодана. Совесть на миг кольнула меня: едва ли мушкетеры посмеют лезть в чемодан дяди Бори, если даже догадаются о тайнике. И получится, что я сжульничал. А за это по головке не гладят. Но руки уже сами приоткрыли крышку и опустили пешку в фанерный уголок.
И пальцы нащупали твердый край какой-то плоской книги.
Я с самых ранних лет был неравнодушен к книгам. Ко всяким. К тому же я знал, что дядя Боря плохих книг не читает, у нас с ним были примерно одинаковые вкусы. Что же такое у него в чемодане? И почему он не показывал мне?
Любопытство толкало меня под локоть. Я прислушался. Голосов и шагов уже не было слышно. Я вздохнул и совершил еще один нехороший поступок: выволок книгу из чемодана.
“Только одним глазочком гляну, вот и все...”
Я бесшумно придвинул книгу к пробившейся под кровать полоске света — смеси оранжевого солнца и желтого электричества.
Увы, это была не книга. Вернее, книга, но не для чтения, а для записей — “Конторская”. Так и было напечатано на ее обложке. Я с разочарованием полистал ее. Там, на разграфленных страницах, синели какие-то беспорядочные чернильные записи, похожие на куплеты песен. Совсем неинтересно. Я хотел уже захлопнуть переплет, когда глаза вдруг уцепились за слово “шпаги”.
Я пригляделся и разобрал строчки:
И, вытащив шпаги свои деревянные
И выйдя на двор, как на палубу брига,
Дик-сэнды, том-сойеры и д'артаньяны
Опять начинают вечерние игры,
И мне вспоминается детства пора
Под стук деревянных клинков во дворах...
Это было так в точности про нас, что в первый миг я даже не удивился. А во второй миг удивляться стало некогда, потому что раздались в коридоре знакомые шаги и голос дяди Бори, который что-то весело говорил матери Вовки Покрасова. Ох, черт, значит, дядюшка не в цирке! И когда дядя Боря шагнул в комнату, я уже выползал “кормой вперед” из-под кровати.
— Ты чего это там делал? — поинтересовался дядя Боря. Без всякой, впрочем, подозрительности.
— Стырился, чтобы мушкетеры не попутали, — ответствовал я на тогдашнем диалекте уличной вольницы. — Наши пацаны есть в ограде?
— Они доблестно бьются за свои идеалы, — сообщил дядя Боря,—пока кое-кто “тырится” под кроватью...
Я обиженно разъяснил, что это была военная хитрость. Тем более что меч сломался.
— Что-то много у тебя хитростей, — заметил дядя Боря. — Вчера смотрел, как вы с Толиком Петровым сражались. Он стоит крепко, только саблей помахивает, а ты туда-сюда мечешься, извиваешься да прыгаешь вокруг...
— Это же приемы такие! — воскликнул я уязвленно. И даже решил прервать с дядюшкой дипломатические отношения. Не меньше чем на три дня. Но он усмехнулся и сказал:
— Дай-ка сюда свой обломок.
Я дал.
— Ну, конечно, опять у перекладины треснул... Говоришь вам, говоришь, что нельзя перекладину гвоздем прибивать. И надрез делать здесь нельзя...
Он столовым ножом вытесал из верхней части клинка новую рукоятку. На кухне, среди растопки для таганка, отыскал сосновую плашку для перекладины. Потом чертыхнулся, что нет никакой веревки, вытащил из-под кровати два старых ботинка, выдернул из них шнурки, связал их и этой бечевкой примотал защитную перекладину к рукояти.
— На, воюй. И больше не “тырься”.
Меч стал покороче, зато рукоятка удобнее. Я простил дяде Боре язвительность его высказываний и, вооруженный, ринулся на двор. Там после короткой и бурной схватки меня “прикололи” к забору Амир Рашидов и Витька Пятигарев. И потребовали подвесок. Пешка оставалась в чемодане. Я соврал, что потерял ее, и отдал взамен латунную гильзу от пистолета ТТ. Потом игра пошла по новому кругу, и я был уже мушкетером, и мы носились по дворам, по заросшему желтыми акациями скверу, по зарослям полыни на склонах ближнего лога. И над нами висела громадная, похожая на розовый воздушный шар луна.
И в ритме ударов шпаги о шпагу, в стуке сандалий по дощатым тротуарам во мне повторялись и повторялись те строчки:
...Дик-сэнды, том-сойеры и д'артаньяны
Опять начинают вечерние игры.
От этих строчек вечер был еще счастливее, игра еще радостнее.
...На следующий день я опять забрался под кровать и запустил руку в чемодан. Пешка была на месте, а конторской книги не оказалось. Спросить о ней дядю Борю я не решился.
Через много лет я рассказал дяде Боре про этот случай. Спросил про стихи. Но дядя Боря улыбнулся и сказал, что не помнит ни этих строчек, ни даже конторской книги. Однако я догадывался, что он писал стихи, только не хотел говорить о них.
Впрочем, сейчас он уже не скрывает своей любви к стихам. Он пишет их до сих пор — славные, добрые стихотворения о детстве, о Тюмени, о путешествиях и о загадках Вселенной. Он никогда не посылал их в редакции, но мне посылает в каждом письме. Письма очень подробные. Дядя Боря теперь плохо слышит, поэтому разговаривает неохотно, зато в письмах он рассказывает о своей жизни обстоятельно и с удовольствием. Он по-прежнему ездит по разным городам, отчаянно “болеет” на хоккейных и футбольных матчах, в курсе всех городских новостей и любит, когда к нему в гости приходят студенты. Он никогда ни на что не жалуется. Слово “жаль” я прочитал в его письме только раз:
“Жаль, что я еще не побывал в Севастополе, о котором ты так много рассказываешь и пишешь...”
Действительно, жаль. Я уверен, что дядя Боря сразу полюбил бы этот город, эти улицы и бухты с толчеей кораблей и блеском вечерних огней... И Шестую Бастионную, и эти переулки, где так же, как в его и в моем детстве, стучат деревянные клинки. И так же повисает над крышами розовая луна, а от калиток уже раздаются такие привычные, такие знакомые оклики:
— Вася! Пора домой!
— Женя-а-а! Юрик, ты не видел Женю?
— Игорь! Где тебя носит? Будешь бегать до ночи?
Солнце уже ушло, горнисты на крейсерах и эсминцах отыграли “спуск флага”, но на улице еще не очень темно. Время коротких южных сумерек.
Цикады набирают силу. И набирают силу крики от калиток и подъездов:
— Петька! Ну, подожди, негодник!
— Мама, я щас! — доносится издалека.
— Я тебе покажу такое “щас”, что...
— Олежка, ты где?
— Андрей, Саша!..
Вечерний воздух лежит над улицей теплыми пластами. Пахнет нагретым ракушечником, разросшейся вдоль заборов сурепкой, пахнет морем. Где-то гремит якорная цепь. Опять зовут мальчишек. И я вспоминаю такой же теплый вечер, очень похожий на этот, хотя и далеко-далеко отсюда.
— Энрике!
— Мануэль!
— Алехандро!
Топот ног по камням. Стук деревянных шпаг. Чуть не написал “сосновых”, но кто знает, из какого дерева они сделаны здесь. Гавана. Ноябрь семьдесят второго года.
...Мне пришлось жить в Гаване почти месяц, и я очень полюбил ее за красоту, веселье, дружелюбие. За гордую историю, за легенды и тайны. За то, что она мне постоянно напоминала о Севастополе. Чем? Желтыми старинными крепостями у моря и бастионами, где солнце накаляет тела чугунных орудий. Синевой громадной воды, белизной улиц и корабельных рубок. Смуглыми мальчишками с такими же веселыми, как у маленьких севастопольцев, глазами (и даже в таких же голубых школьных рубашках). И тем, что жизнь в обоих этих городах неотделима от жизни моря...
Как-то вечером я бродил по улочкам портового района и наконец вышел на главную площадь Старой Гаваны.
Было уже совсем темно. Тонкий месяц с задранными вверх рогами затерялся где-то за крышами. Полукруглые окна старинных домов мягко светились над арками, но площадь почти не освещали. Только в нескольких местах на плиты падали полосы желтого света.
Окна казались мне очень дружелюбными. Я знал, что до революции в окружавших площадь домах жили богачи, а теперь здесь были квартиры рабочих. За открытой дверью балкона мягко пела пластинка. Это была старая, известная всем “Голубка”. Когда я был маленький, ее любил напевать дядя Боря.
В небе смутно вырисовывались две башни древнего Кафедрального собора, в котором, по преданию, был похоронен Колумб.
В такую пору на такой площади должна стоять торжественная и немного таинственная тишина. Но тишины не было. Кроме мотива “Голубки” ее нарушали — как бы вспарывали и пробивали ее — звуки веселого мушкетерского боя. Мальчишечья компания носилась по площади, изредка проскакивая через полосы света. В этом свете мелькали свежеоструганные клинки. А из окон и с балконов время от времени доносились материнские возгласы:
— Педро!
— Антонио!
А затем и целые фразы, в которых я улавливал слова “папа” и “эскуэла”. И можно было догадаться, что если вышеупомянутые гаванские Петька и Антошка сию минуту не явятся ужинать, “папа” вплотную займется их воспитанием. Носятся допоздна, а утром не добудишься, чтобы отправить в “эскуэлу”.
И, естественно, мальчишки отвечали словами, которые на русский язык переводятся очень коротко: “Щас!”
Ноги у меня гудели от долгой ходьбы. Я присел на теплый цоколь колонны у одного из домов. Пригляделся. Полной темноты на площади все же не было. Я разглядел, что сражавшихся пятеро или шестеро. А еще между ними будто носилась громадная белая бабочка. Я сперва никак не мог понять, что это. Флажок какой-то, что ли? И лишь когда мальчишки проскочили рядом, в свете ближнего окна, я понял, что это совершенно черный пацаненок в белых шортиках и белой развевающейся рубашонке. На миг блеснули его веселые глаза и сахарные зубы.
Вчера на этой площади и на улицах было тихо. Вчера вечером по кубинскому телевидению шла последняя серия длинной постановки “Двадцать лет спустя”. Я видел в открытых дверях домов, как ребята стайками сидят на полу перед большущими экранами телевизоров “Электрон”. Мелькали страусовые плюмажи над широкополыми шляпами, и говоривший по-испански д'Артаньян ловко раскидывал шпагой прихвостней коварного Мазарини.
А сейчас множество юных д'артаньянов повторяли эти приключения в переулках и на площадях Гаваны. Среди могучих стен, арок, памятников и бастионов, которые в старину видели немало настоящих приключений и слышали звон настоящих шпаг. Здорово играть в таком месте, верно?
— Хорхе! — услышал я сипловатый и громкий голос. — Хорхе!
На освещенном балконе стоял старый седой негр.
— Хорхе!
Черный мальчишка остановился недалеко от балкона, задрал курчавую голову, что-то заговорил, отчаянно рассыпая звуки “л” и “р”. Но дед сказал какую-то длинную фразу и погрозил пальцем. Хорхе сердито махнул клинком и побежал в дом.
Мне стало обидно. Даже не столько за Хорхе, сколько за его деда. На вид такой симпатичный старик, похож на дядюшку Римуса из сказок про братца Кролика, а внука не понимает. Разве можно перебивать игру в самом разгаре!
Мальчишки умчались на другой конец площади. Все, кроме одного. Один подошел и тихо сел рядом. Ну, не совсем рядом, а в метре от меня. Он поставил между колен клинок, вытер о мятую брючину вспотевшие ладони, досадливо ударил по дребезжащей рукояти. Рукоять шпаги дребезжала потому, что щиток ее был сделан из консервной банки и узорчато переплетенной проволоки. Сейчас эта сложная конструкция разболталась. Верхний конец дужки, защищавшей пальцы, отскочил от головки рукояти. Мальчишка мельком глянул на меня и шмыгнул .носом (должен заметить, что по-испански и по-русски такое шмыганье звучит совершенно одинаково).
— Твоя... шпага... сломалась? — спросил я, медленно подбирая испанские слова. Вернее, слово “сломалась” я не вспомнил и сказал “заболела”. Наверно, это звучало странно и даже глуповато. Но мальчик придвинулся и тихо сказал:
— Си, компаньеро.
И протянул свое оружие.
А что я мог сделать? Тут нужны были плоскогубцы и молоток да еще гвоздики или проволока. Сказать мальчику, чтобы принес это все из дома? Моих познаний в испанском языке не хватит. Да и кончится такая попытка наверняка печально: “Опять на улицу? Хватит бегать, ночь на дворе!” В этом смысле все родители одинаковы: и в Тюмени, и в Севастополе, и в Гаване, и на всем белом свете.
Но не мог же я отпустить человека без помощи! Тем более что он сказал “компаньеро”. А это значит — товарищ. Он и в самом деле был моим товарищем — соратником по громадной мальчишечьей Армии Деревянных Мечей. Одним из миллионов дик-сэндов, том-сойеров и д'артаньянов, о которых писал дядя Боря. И, вспомнив о дяде Боре, я вытянул из полуботинок шнурки.
Я отогнул на проволочной дужке усики и примотал их к головке рукояти.
Мальчик молча следил за моей работой. Он не шевелился, только босые ступни его нетерпеливо постукивали по камню. Рассеянные лучи отражались от колонны, от плит и падали на мальчика. Он был похож на Сережку Фоменцова — барабанщика из моего пионерского отряда “Каравелла” в Свердловске. Конечно, этот маленький д'артаньян уже догадывался, что рядом с ним сидит “советико”. Но не пытался завести разговор, не просил значок на память, не спрашивал, как зовут. Главным для него сейчас было оружие. Потому что на другом краю площадки шла битва. Даже в густой теплоте воздуха чувствовалось, каким боевым жаром горит худенькое тело мальчишки. Он дышал тихо и часто. Я затянул шнурок морским прямым узлом и протянул шпагу хозяину.
— Грасиас... — выдохнул он и умчался туда, где звенели голоса друзей. А следом за ним выпорхнула из-под сводов аркады и унеслась туда же большая белая бабочка. Значит, Хорхе уговорил дедушку и опять вырвался на волю!
Я, радуясь, будто побывал среди друзей детства, зашлепал незашнурованными полуботинками — по переулкам, по набережной Малекон, где под парапетом, среди камней, горели рыбачьи костры, — к гостинице “Абана либре”... А утром выяснилось, что у меня совершенно неприличный вид: не мог же я идти на прием в редакцию журнала “Пионеро” в башмаках без шнурков! Похожая на завуча дама — переводчица нашей делегации — принялась отчитывать меня за легкомыслие. Но я рассказал о вчерашнем случае двум кубинским поэтам. Они обрадованно смеялись и скоро принесли мне столько шнурков, что я мог бы отремонтировать шпаги целой мушкетерской роте...
Дома у Камышовой бухты начинают сиять многоярусными огнями, но закат над ними пока не погас. На улицах пока не очень темно и различимы лица мальчишек и редких прохожих.
От лестницы я шагаю по Бастионной и скоро выхожу еще на одну маленькую площадь. На ней сбегаются сразу несколько улиц. В том числе и переулок с желтой крепостной стеной — остатками еще одного бастиона — Седьмого.
Вдоль стены, перекликаясь по-птичьи, пробегают четверо мальчишек с палками. В ближних дворах, на заросшем косогоре у двухэтажного дома, на крышах гаражей тоже слышны голоса и отзвуки мушкетерских схваток.
Чей-то голос требовательно орет:
— Эй ты, бросай оружие!
Я замираю, будто всерьез. Но тут же слышу тонкоголосый и боевой ответ:
— Фиг вам! — И разгорается шум схватки, слышны прыжки в ломкие кусты, топот и победный смех.
Я облегченно вздыхаю и сажусь на теплый камень, торчащий среди стеблей сурепки. Но давняя досада оживает во мне, и снова неспокойно на душе. Потому что сам я однажды бросил оружие.
Это было не тем летом, когда искали подвески, и не в том дворе с поленницами. Позднее это было. Наверно, через год.
Стоял конец октября. Снег еще не выпал, но земля застыла, и мерзлые комья стучали под ботинками, когда мы устраивали сражения на большом пустыре и на склонах глубокого лога. Сухо трещал серый бурьян, в брюки и ватники впивались похожие на дохлых двухвосток колючки.
Игра была все та же, мушкетерская. Потому что в клубе железнодорожников шел новый фильм “Железная маска”. Не тот, который знают нынешние зрители, а односерийный, черно-белый. Трофейный. Это была суровая кинокартина — с жестокими схватками, жгучими тайнами и страшными приключениями. Оттого, что она такая зловещая, ее, наверно, и не стали показывать в главном кинотеатре, а пустили в стареньком деревянном клубе рядом с вокзалом. Мы клянчили дома трешки, по нескольку раз выстаивали фантастические очереди за билетами и, наконец, замирали в душном кинозале под стрекочущим пыльным лучом...
В этой картине мушкетеры были настоящие. И по-настоящему гибли в конце фильма. И то, что их приемный сын становился королем Франции, нас мало утешало. Утешения мы искали в собственной игре, на ходу переделывая судьбу героев. Сначала игра была как игра.
С мальчишками на той улице, куда мне пришлось переехать, я не очень дружил, но на этот раз все шло хорошо. Пока не присоединилась к нам компания с улицы Зеленая площадка, из-за лога. Этой компании не нужны были выдумки и тайны. И дуэльных правил они не признавали. Вместо улыбок — ухмылки, вместо честной боевой атаки — тупой и злобный напор. Все чаще бой на мечах и шпагах грозил перейти в драку. Предводитель по кличке Пупырь искал причины, вспоминал давние уличные и школьные споры.
И. вот однажды этот Пупырь прижал меня к стылому глинистому обрыву, когда обе воюющие армии скатились из переулка в лог. Пупырь крутил над головой ветвистую корягу и орал:
— Разойдись, гады! Черепушки снесу!
И все разбежались. А я застрял в сухом репейнике под обрывом. Пупырь занес корягу и гаркнул:
— А ну, бросай свою саблю, гнида!
Он был крепче меня, а главное — нахальнее и неизмеримо злее. Это была какая-то безоглядная, необъяснимая злость. Я оказался беспомощным перед его остервенением. В стеклянно-прозрачных глазах Пупыря не было ничего, Кроме готовности махать и бить. И на пухло-гладком, как громадный рыбий пузырь, лице ни намека на улыбку.
— Ну!! — снова надрывно заорал Пупырь. Мой сосновый клинок ничего не смог бы поделать с его сучковатой корягой.
— На, подавись, — всхлипнул я и бросил шпагу к разлапистым кирзовым сапогам Пупыря. Он довольно ухмыльнулся. И велел:
— А теперь уматывай отсюда!
Я, глотая слезы, пошел через бурьян и репейники мимо шеренги врагов. И мимо “своих” — тех, кто должен был меня защитить. Они не защитили, они стояли и тоже усмехались. Правда, кисло как-то усмехались и поглядывали кто по сторонам, а кто в землю. Они тоже боялись Пупыря и были рады, что он их не тронул, унизил только меня. В ухмылках они прятали страх и стыд за это неожиданное перемирие. Они делали вид, что не опасаются Пупыря, а просто уважают его: как он здорово расколошматил своего противника!
В конце концов. Пупырь был “ихний”, с соседней улицы, а я чужак, недавно появившийся в этих местах. Да к тому же “книжный мальчик” со всякими “загибами в черепушке”...
Целую неделю я мучился оттого, что бросил шпагу. Пытался оправдаться, доказывал себе, что была уже не игра и что Пупырь с дружками просто излупил бы меня, если бы я не сдался. И дело тут не в страхе. Просто я был не готов к такой войне. “Вот если ты играешь в солдатиков, — говорил я себе, — и вдруг на тебя из-за угла выезжает настоящий танк, тогда что? Бах-бах в него из бумажной пушки?”
Такие рассуждения слегка успокаивали меня. Но ненадолго. Во-первых, Пупырь был не танк, а просто мелкая шпана. Во-вторых, когда я вспоминал желтый новенький клинок у его заскорузлых сапожищ, меня мутило от стыда.
И я даже обрадовался, когда через неделю Пупырь повстречал меня у продуктового магазинчика на углу Ямской. Он повстречал и, конечно, “прискребся”:
— Ну чё, “дыртанян”? Еще будешь воевать с нашими? Как дам сейчас — были шарики на лбу, станут знаешь где?
Я сказал ему, кто он есть и куда должен идти. Причем сказал не на языке “книжного мальчика”. Пупырь обрадованно засопел и пнул по моей сумке, где лежала буханка и пакет с маргарином. Я, захолодев от ненависти, поставил сумку и с размаху ударил головой в ненавистную Пупырью рожу. Пупырь увернулся. Я врезался головой в толстенный тополь. Шапка смягчила удар, но последние ниточки страха от этого удара во мне лопнули. Я вцепился в Пупыря, и мы скатились в канаву у деревянного тротуара.
Что ни говорите, а справедливая ярость придает сил! Скоро я сидел на Пупыре. Даже и тогда я помнил, что лежачего бить нельзя, зато, всхлипывая от счастья, кормил этого гада, кормил, кормил мерзлой травой и твердыми земляными комками. Пока он не завыл...
О славной для меня битве скоро узнали все пацаны из окрестных дворов. И я чувствовал большое облегчение. Но не полное. Конечно, я этой дракой кое-что изменил в своей жизни, кое-как искупил тот позорный случай в логу. Но в глубине души я понимал, что мне просто повезло. Не каждый раз и не всякому человеку, если он струсил и бросил оружие, удается исправить это. Может просто не хватить времени. Особенно если это не игра...
А с теми ребятами я больше не имел никакого дела. Я снова стал уходить на улицу Герцена, в старый двор, где жили друзья детства. Здесь тоже бывало по-всякому: случались драки, обиды и затяжные ссоры. Но были здесь и незыблемые правила мальчишечьей жизни: игра — это игра; а если драка, то голыми руками и один на один. И главное — не без причины, а если уж очень накипело. 3десь могли отобрать или даже стащить самодельный пистолет или рогатку, но никому бы в голову не пришло отнимать копейки или купленную игрушку. Здесь твердо знали, что нельзя нападать сзади, бить лежачего, жадничать, хвастаться обновками и бросать человека в трудную минуту. Знал” все, в том числе и такие люди, которых сейчас бы наделенные педагогическим опытом взрослые назвали “трудными подростками”.
Несколько человек сражались на лужайке шагах в двадцати от меня. Потом шум битвы приутих. Бойцы разбрелись. Один оказался почти рядом со мной. Тоже присел на камень, положил на колени меч, подпер ладошками кудлатую голову.
— Роська!.. — окликнул я.
Он вскочил, подбежал. Заулыбался:
— Здравствуй... Гуляешь?
Я кивнул, подвинулся на камне. Четвероклассник Роська. Вихрев, горячий от недавнего боя, сел рядышком, сунул голову мне под локоть. Потерся ухом о мои ребра.
Роська — человек удивительно ласковый и абсолютно бесстрашный. Мы познакомились с ним пять лет назад и часто разговаривали о жизни. Иногда Роська устраивался рядом, как мурлыкающий котенок, и рассказывал свои детсадовские тайны. А потом срывался с места и заставлял меня обмирать от страха: он так скакал и носился по кручам над морем, что у меня звенело в голове. А он хохотал... Он и теперь такой же, только подрос.
Я улыбаюсь про себя: “Роська-под-рос...”
Настоящее имя у него Юрий, Юрик. А Роська — это от прозвища Юрос. Юрос-матрос. Прозвище появилось как раз в те дни, когда мы познакомились. Отец — в то время старпом большой крейсерской яхты — взял Юрку в небольшое воскресное плавание. Было солнечно и ветрено, яхту хорошо покачивало. Кое-кто из гостей скоро полег по бортам и свесил головы к воде; А шестилетний Юрка носился по яхте, как мартышка, — по палубе, по рубке, по релингам, вантам и гику. Отец несколько раз гаркал на него: успокойся, мол. Наконец Юрка притих. Вернее, его вообще не стало. Нигде. Неожиданная тишина встревожила экипаж. Несколько человек быстро осмотрели помещения. Не было Юрика. Отец побледнел.
Яхту круто положили на обратный курс, по волнам зашарили бинокли. Отец кинулся еще раз обыскивать кубрики и рубку—на всякий случай. И вот в носовом кубрике он услышал сдавленный писк.
Юрка застрял наверху двустворчатого шкафчика-рундука. Он заклинился между верхней крышкой и палубной балкой — бимсом. Звать на помощь он не хотел, чтобы не уронить авторитет.
Папа Вихрев выволок непутевого мореплавателя из щели, медленно и глубоко вздохнул и дал ему увесистого леща по тому месту, которое на корабельном языке именуется “транец”.
Юрка потер пострадавшую часть тела и ушел на нос палубы. Там он с полчаса сидел, зыркая негодующими очами. Бородатый шкипер дядя Гриша сказал ему:
— Что, Юрос-матрос? Поимел от старпома педагогический момент?
Юрка демонстративно отвернулся. Но прозвище к нему прилипло сразу и намертво...
Внешне Роська — чертенок, состоящий из косматой головы, острых локтей и коленок и нескольких десятков синяков и ссадин. У него во дворе есть сосед — Андрюшка Сажин. На Роську он совершенно непохож — кругловатый, медлительный, тихий и на первый взгляд даже трусоватый. Казалось бы, чего общего? Но с самого начала школьной жизни они друзья-приятели, хотя и ссорятся иногда.
А если не ссорятся, то всегда вместе.
— Что Андрюшки не видать? — спрашиваю я. — Опять чего-то не поделили?
— Его из дому не выпускают, — вздыхает Роська. — Нам теперь втроем приходится воевать против четверых... Сейчас у нас перерыв...
Трое против четверых — это вам не шуточки. Я спрашиваю с сочувствием:
— Почему не пускают? Двойку схлопотал?
— Синяк он схлопотал под глаз, — объясняет Роська. — А бабушка его ни в чем не разобралась и сразу: “Больше на- улицу никогда не пойдешь!”
Для Роськи синяк — дело обычное. Но для Андрюшки...
— Как он ухитрился?
— Да вот так... Подрался с писателями...
— Что-о-о?!
— Ох... — До Роськи доходит, что я тоже имею отношение к писательской профессии. Он виновато ежится у меня под боком и торопливо объясняет: — Это не такие писатели. Это те, кто всякую ерунду на стенках пишет, мы их так зовем. Ты не обижайся...
Я все-таки слегка обижаюсь и говорю, что можно было бы придумать другое название. Роська обещает подумать.
— А что за драка была? — интересуюсь я, потому что знаю: Андрей не из тех людей, которые прут на рожон.
И слышу такую историю.
В квартале отсюда есть памятник артиллеристам береговой обороны. Это оставшийся от военных времен бетонный капонир и два корабельных орудия. Вчера три каких-то балбеса (класса из шестого!) полезли к орудиям и начали писать на щитах названия джинсовых фирм: и всякую другую ерунду. Андрюшка Сажин и еще двое ребят как раз играли там и увидели такое дело. Андрюшка первый увидел. И кинулся первый...
Он не стал вести разговоров про то, что надо уважать памятники, историю города и тех, кто здесь воевал. Не было на это у Андрюшки ни умения, ни времени. Он просто заорал:
— А ну пошли отсюда, гады! Это наши пушки!
И он был абсолютно прав. Пушки в самом деле его. И всех ребят, которые там играют и которые знают про то, как громили фашистов защитники города. Для того пушки и поставлены, чтобы ребята играли и помнили. И балбесы с мелом кинулись прочь, хотя один и успел вляпать Андрюшке по глазу.
Мне в голову приходит наконец простая догадка: Роська знает эти подробности явно не понаслышке. Эту догадку я высказываю вслух, и Роська со вздохом соглашается:
— Ага... Рубашка немного порвалась тогда...
— А мама как отнеслась к этой истории?
— С пониманием, — скромно говорит Роська. — Она ведь у меня справедливая... Ой, вон она идет!
В сумерках уже трудно разглядеть прохожих, но кто же не узнает свою маму!
Роська срывается маме навстречу. Я тут же убеждаюсь, что она действительно относится к сыну с пониманием, но понимает кое-что по-своему.
— Ты что, еще дома не был после школы? — спрашивает она, уклоняясь от излишне горячих объятий.
— Нет, я был... маленько.
— Так “маленько”, что не было времени переодеться? Так и носишься с часу дня до вечера?
Роська в самом деле “носится” в школьной рубашке, даже галстук не снял. Он озабоченно переступает тощими ногами в съехавших светлых гольфах. Потом быстро оглядывается на меня. Но я отодвигаюсь в полный мрак— под ветки акации с громадными высохшими стручками (они тихонько скрежещут, как жестяные). Роськина мама — человек настроения, под горячую руку может попасть и мне. А потом нас обоих с Роськой загонят домой. Его — готовиться к школе, меня — пить чай.
— Ты хотя бы пообедал? — спрашивает мама Роську строго, но без особой надежды.
— Ага. В школе...
— А уроки?
— Я сделал. Тоже еще в школе,
— Все?
— Ага. Почти...
— Ах “почти”! Кстати, почему Клавдия Ивановна опять зовет меня завтра в школу? Мне звонили...
— Ой, это не из-за меня! Это в родительский комитет насчет ремонта...
— Знаю я этот ремонт. Ну-ка марш домой.
— Мам...
— Что “мам”? “Мам” за тебя будет делать домашние задания?
— Ну, я же скоро! Мы сейчас додеремся!.. А то нас и так трое! Ну, ма-ма... Ты у меня хорошая... — Он умеет мурлыкать и подлизываться.
— Нечего тут ворковать. “Хорошая”...
— Мамочка, ну всего пять минут...
Роська знает, что, где пять, там и пятнадцать. А там и полчаса. Мама это знает не хуже его. Она из тех мам, которые в свое время вместе с мальчишками рубились на деревянных мечах. Но, с другой стороны, уроки. Это дело первостатейной важности. Сначала уроки, потом уж забавы, кто этого не знает? Кто с этим спорит?
Но для Роськи и для других мушкетеров предстоящий бой — не забава. Это очень важное дело, это их сегодняшняя боевая жизнь. И не может он уйти, бросить друзей. Тем более что их тогда останется двое против четверых!
— Учти! Через пятнадцать минут быть дома, — говорит мама, зная, что через полчаса придется выходить на балкон и включаться в перекличку:
— Роська! Сколько можно звать!
— Шурик, домой!
— Алексей! Тебя на аркане тащить?
— Дима! Я сейчас пошлю за тобой папу!
(А цикады — все громче, а луна — все выше и ярче...)
Но это будет еще через целую вечность — через полчаса, а то и больше. А пока с дальнего края площадки несутся боевые кличи: кончилось перемирие между гвардейцами кардинала и мушкетерами де Тревиля. Роська сует под мышку зазубренный клинок, поддергивает гольфы — тем же движением, каким д'Артаньян поддергивал перед схваткой ботфорты, — распрямляется и... гибкой пружиной срывается с места.
И... нет, я не ошибся! Вдоль каменного белого забора туда же мчится еще один боец — толстоватый, запыхавшийся, но полный боевого рвения. Андрюшка вырвался на волю!
Он спешит и с размаху натыкается на прохожего. Точнее — на прохожую. Я слышу раздраженный и какой-то жирный голос:
— Что вы тут носитесь! Некуда ступить, только и мельтешат под ногами!
Хозяйки голоса почти не видно, однако я представляю крашеную даму с кошелкой и тяжелыми серьгами. Такая ни в каком детстве не сражалась на мечах.
— Играть, что ли, нельзя? — огрызается Андрюшка.
— Нашли где играть! На улицах! Я вот скажу родителям, я их знаю!
— А это не ваши улицы! — отвечает Андрюшка, рискуя заработать новые неприятности.
— А чьи? Твои? Собственник какой! — возмущается дама.
— Наши! — отвечает Андрюшка, убегая.
И он опять прав. Их эти улицы — его, Роськины, их друзей. Всех хороших людей. За этих людей дрались здесь в давние времена защитники Шестого и Седьмого бастионов. За них сражались артиллеристы береговой обороны — те, кому стоит неподалеку памятник. За них воевала армия генерала, чье имя носит ближняя улица. Для того, чтобы нынешние дик-сэнды, том-сойеры и д'артаньяны могли по вечерам сражаться на улицах деревянными мечами. Деревянными — пусть.
И как было бы хорошо, если бы на всем белом свете осталось только такое оружие. И одна только армия — вечная мальчишечья Армия Деревянных Мечей.