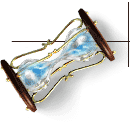
|
|

|
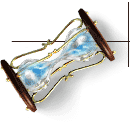
|
|
|
ТУЧА
Под низким пасмурным небом, под непрерывным сеющим дождем по мокрому асфальтовому шоссе движется колонна машин: длинный лимузин впереди и три огромных автофургона следом. На мокрых брезентовых боках фургонов знаки «Опасный груз». На заднем сиденье лимузина, сложивши руки на груди, расположился хозяин этой колонны, известный метеоролог и атмосферный физик профессор Нурланн, человек лет сорока, с надменным лицом. Впереди рядом с шофером сидит его ассистент, личность вполне бесцветная, доведенная своим начальником до состояния постоянной злобной угодливости. О шофере и говорить нечего, голова его втянута в плечи, словно он поминутно ожидает, что его ткнут в загривок. Ассистент, вывернувшись на сиденье, насколько позволяют ремни безопасности, говорит ядовито-сладким голосом: – Я правильно помню, профессор, что вы не бывали здесь вот уже больше пятнадцати лет? Нурланн молчит. – Пятнадцать лет! С ума сойти. Я понимаю ваше волнение – вернуться в родной город, даже при таких обстоятельствах... Нурланн молчит. – А может быть, именно при таких обстоятельствах? Вернуться как бы избавителем. Избавителем от большой беды... – Сядьте прямо и заткнитесь, – холодно говорит Нурланн. Ассистент моментально выполняет приказание. На губах его довольная улыбка. Видимость отвратительная – не больше пятидесяти метров. За пеленой дождя по сторонам дороги уносятся назад: шеренга каких-то зачехленных громадин вдоль шоссе и снующие среди них солдаты в плащ-накидках; необозримое стадо пустых пассажирских автобусов; походная радарная установка; еще одна походная радарная установка, окруженная стадом пасущихся коров; обширная асфальтовая площадка, несколько вертолетов на ней; бензоколонка, очередь легковых машин с трейлерами, на крышах мокнут разнокалиберные чемоданы, и тут же остановился фермер с телегой и взирает на это с видом глубокой задумчивости. И вообще: то и дело проносятся навстречу лимузину легковые машины, тяжело нагруженные барахлом.
Колонна, замедлив ход, въезжает в город. Граница города обозначена гигантским медным барельефом городского герба: обнаженный богатырь с ослиной головой поражает трезубцем гидру о трех головах – две из них мужские, третья женская. Сразу за барельефом в сквере стоят два танка, и тут же под навесом за походным столом кормятся несколько военных вперемежку со штатскими. Ослепительная молния вдруг обрушивается на сквер, и тотчас за ней вторая оплетает самое высокое дерево. Привычного грома нет, а есть какой-то странный свистящий шелест, но вспышки очень яркие и молнии очень страшные. Под навесом, однако, только один человек поднял голову и обернулся с недовольным видом, не переставая жевать.
В оперативном отделе штаба на огромном столе расстелена карта города. Вокруг стола стоят военные в пятнистых десантных комбинезонах без знаков различия и несколько штатских. В конусе света от лампы только карта и руки, упирающиеся в стол, лиц почти не видно. На карте центр города занят угольно-черным пятном неправильной формы, по очертаниям немного напоминающим бабочку с распростертыми крыльями. – Я полагаю ударить сюда, – говорит Нурланн, показывая пальцем. – Для начала рассечем ее пополам. Если повезет, мы сразу накроем активную зону. Здесь проходит магнитный меридиан, вот по этому проспекту... – Дорога чистых душ, – негромко произносит кто-то из военных. – Что? – надменно спрашивает Нурланн. – А! В мое время это был проспект Реформации... Очень удачно, что он проходит прямо по малой оси, можно бить прямой наводкой. Для начала, полковник, мне нужен дивизион «корсаров». Полагаю, его надо развернуть где-нибудь здесь... или здесь... А после того как она развалится надвое, будем бить в этом и этом направлении. – А если не развалится? – насмешливо и раздраженно спрашивает кто-то. Нурланн, резко вздернув подбородок, пытается рассмотреть в сумраке говорившего. Полковник поспешно произносит: – Вы должны понять нас правильно, профессор. Все-таки мы здесь уже полгода. Мы испробовали чертову пропасть всевозможных средств, а помогают одни только дальнобойные огнеметы... и вообще огонь... Тот же насмешливо-раздраженный голос вставляет: – Пока горит. – Вот именно, – говорит полковник. – Пока горит, она не двигается. – Там, где горит, – вставляет голос. – Капитан, я попросил бы вас! – сердито говорит полковник. Нурланн, несколько смягчившись, снисходит до объяснения: – Я привез сорок пять снарядов, начиненных «Одеколоном АБ». Это коагулянт, который осаждает любое аэрозольное образование. Подчеркиваю: любое. Газетчики распространяют легенду, будто Туча – живое существо. Это вздор. Туча – это аэрозольное образование довольно сложной и не вполне понятной структуры. Поскольку оно возникло и распространяется в плотно населенном районе, у нас, к сожалению, нет возможности изучить его должным образом. Его придется уничтожить. Для этого я и приехал. – То есть вы полагаете, – уточняет полковник, – что эвакуацию можно отменить? Нурланн, повернув голову, смотрит на него. Полковник продолжает: – Эвакуация практически подготовлена. Более того, если бы не... ну, некоторые обстоятельства... некоторые неконтролируемые обстоятельства, мы бы ее начали завтра. Дело в том, что скорость Тучи увеличивается, вчера на некоторых радиусах она превысила сто метров в сутки. – Увольте, полковник, – недовольно говорит Нурланн. – В этом вопросе я не компетентен. Могу сказать только, что «Одеколон АБ» – штука очень ядовитая и людям лучше держаться от нее подальше. Таким вот образом. Может быть, еще есть вопросы? Робкий голос: – Правда, что вы родились в этом городе? Нурланн ухмыляется: – Правда. Вот здесь я родился (показывает пальцем на карте). Вот здесь жил. Здесь венчался (палец упирается в центр черного пятна). Так что, господа мои, эта штука (стучит по черному пятну) нравится мне еще меньше, чем вам, и играть с ней в научные игры, как вы, может быть, полагаете, я не намерен. – Аминь, – произносит насмешливый голос, и все смеются с явным облегчением. – Вот и славно, – произносит Нурланн покровительственно. – Теперь так, полковник. Первый залп назначаем на завтра, восемнадцать ноль-ноль, раньше все равно не управимся. А утром, часов в десять, я бы хотел посмотреть на нее сверху. Напоследок. Могу я рассчитывать на вертолет? Возникает нечто вроде замешательства. – М-м-м... – тянет полковник. – Вертолет я, конечно, дам... – Но? – спрашивает удивленный Нурланн. – Смысла никакого нет, – говорит полковник. – Как бы это вам объяснить... – Вы ничего не увидите, – говорит кто-то. – Почему? – спрашивает Нурланн. – Облачность? Но Туча выше облаков! – Нет, вы увидите, только не то, что есть на самом деле. – А что? Мираж? – Мираж не мираж, – говорит полковник в затруднении и от этого сердясь. – А, да что мне – вертолета жалко? Я распоряжусь. – Вы лучше, профессор, посмотрите на это. Это дело верное, без миражей, – говорит кто-то и высыпает веером на карту несколько фотографий. Нурланн небрежно перебирает их одну за другой. – Это я видел... и это видел... Его внимание задерживается только на одной фотографии: Туча просачивается через дом. Светлый тысячеоконный фасад на фоне угольно-черной стены и тысяча черных языков, выливающихся из окон. Нурланн бросает фотографию на стол и говорит: – Хочу проехаться по городу. Посмотрю завтрашнюю позицию и посмотрю все это (он щелкает пальцем по фотографиям) вблизи. – Конечно, – говорит полковник. – Разрешите представить вам сопровождающего: старший санитарный инспектор Брун. При первых словах полковника лицо Нурланна неприязненно сморщивается, но при имени Бруна оно расцветает неожиданно доброй улыбкой. – Господи, Брун! – восклицает Нурланн. – Откуда ты здесь?
Лимузин профессора Нурланна неторопливо катит по улицам. В городе безраздельно царит дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб, разливается по мостовой, бежит по руслам, промытым между плитами тротуаров. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. Человек – незваный гость на этих улицах, дождь его не жалует, и людей почти не видно. – Как это ты заделался санитарным инспектором? – спрашивает Нурланн сидящего за рулем Бруна. – Ты же, помнится, был по дипломатической части. – Мало ли что... Вон Хансен – сидел-сидел у себя в суде, а теперь кто? Великий бард! Менестрель! – О да. Давно ты его видел? – Да два часа назад, он с утра до вечера торчит в отеле, где ты поселился. В ресторане, конечно. Пьет как лошадь, старый хрен.
Вместе с дождем в городе хозяйничают молнии. Странные, очень яркие и почти бесшумные молнии. Огненными щупальцами они то и дело проливаются из Тучи и уходят в фонарные столбы, в фигурные ограды палисадников, просто в мостовую. Вдоль стены дома пробирается случайный прохожий, согнувшийся под зонтиком, и молния падает на него, оплетает тысячью огненных нитей. У человека подкашиваются ноги, он роняет зонт, хватается за стену и приседает на корточки. Это длится несколько секунд. Вот он уже опомнился, подобрал зонтик и, очумело крутя головой, заспешил дальше.
– Невозможно поверить, что это безвредно, – говорит Нурланн, провожая прохожего взглядом. – Даже полезно, – откликается Брун. Лимузин сворачивает за угол и останавливается. – Это еще что такое? – озадаченно спрашивает Нурланн. – Кто они такие, что они здесь делают? На обширном газоне расположился странный лагерь. Прямо под дождем расставлены кровати, шкафы, столы и стулья, кресла – не походная мебель какая-нибудь, а дорогие спальни и кабинеты, безжалостно и противоестественно извлеченные из особняков и апартаментов. Тут и там торчат роскошные торшеры, которые, разумеется, не горят, трюмо и трельяжи, по зеркалам которых толстой пленкой стекает вода. И здесь полно людей, которые ходят, лежат и даже, кажется, спят под пропитанными водой одеялами. Мужчины и женщины, старики и старухи, все в одинаковых плащах-балахонах в черно-белую шахматную клетку. Кто-то из обитого бархатом кресла склонился над походной газовой плитой, помешивая в кастрюльке; кто-то стоя читает толстенький томик, видимо молитвенник; а кто-то целой бригадой стаскивает с грузовика новую порцию диванов, торшеров и кроватей... – Агнцы Страшного Суда, – произносит Брун с неопределенной интонацией. – Прочь из-под тяжких крыш. Они не спасут, они раздавят. Прочь из затхлых обиталищ. Они не согреют, они задушат. Под небо! Под очищающее небо! Причащайтесь чистой влаге! Только тот спасется, кто успеет очиститься. И так далее. Агнцы Страшного Суда. У нас их много. – При чем здесь Страшный Суд? – А при том, что вы все считаете Тучу аэрозольным образованием. А для них это начало Пришествия Того, кто грядет. И когда Туча закроет всю Землю, начнется Страшный Суд. Сразу за лагерем Агнцев стоит на проспекте, взгромоздившись правыми колесами на тротуар, странная машина, этакая помесь «скорой помощи» и пожарной, длинная, желтая, непропорционально высокая, с огромными красными крестами на бортах, усаженная всевозможными фарами, прожекторами, проблесковыми маячками, ощетиненная причудливыми антеннами, стоит тихая, странная, словно бы брошенная, и только вспыхивает у нее на крыше фиолетовый слабый огонек. – Я развелся тогда, пятнадцать лет назад, – говорит Нурланн, – и нисколько об этом не жалею... – Да, я видел твою бывшую на прошлой неделе, – откликается Брун. – Был гран-прием у отцов города... Она у тебя очень, очень светская дама. – Да провались она совсем, – говорит Нурланн раздраженно. – Мне дочку жалко. Так и не отдает она мне Ирму. – У тебя дочка есть? – спрашивает Брун, насторожившись. – Да. Вижусь с ней раз в два года... то ли дочка, то ли просто знакомый ребенок. Раз в два года мамаша изволит ее ко мне отпускать, стерва высокомерная... – Угу, – произносит Брун. – А у меня, слава богу, детей нет. По крайней мере, в этом городе.
Туча. Она перегораживает проспект и выглядит как непроницаемо-черная стена, поднимающаяся выше всех крыш и уходящая вершиной в низкие облака. Огромные медленные молнии ползают по ней, словно живые существа. Сама же она кажется абсолютно неподвижной и вечной, как будто стояла здесь и будет стоять всегда. – Экая красотища, – произносит Нурланн сдавленным голосом. – Жалко? – Брун криво ухмыляется. – Не знаю... Не об этом речь. А поближе подъехать нельзя? – Нельзя. – Брось, давай подъедем. Брун цитирует: – Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох.
Лимузин вынужден притормозить, чтобы проехать через толпу, сгрудившуюся вокруг тумбы регулировщика. В основном толпа состоит из шахматно-клеточных Агнцев, но довольно много среди них и простых горожан, они отличаются не только одеждой, но и тем, что прячутся под зонтиками – великое разнообразие зонтиков: огромные черные викторианские; пестрые веселенькие курортные; прозрачные коконы, укрывающие человека до пояса... В толпе можно видеть и военных в плащ-накидках. Все лица обращены к человеку в клетчатой хламиде, который вдохновенно ораторствует, взобравшись на тумбу. За дождем его плохо видно и еще хуже слышно, доносятся только выкрики-возгласы: – ...Последнее знамение! ...бедные, бедные агнцы мои! ...очищайтесь! ...и число его – шестьсот шестьдесят шесть! ...отчаяние и надежда, грех и чистота, черное и белое! Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом изливается из облаков лиловая молния и неторопливо, с каким-то даже сладострастием оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится набок, как мешок с тряпьем, но он еще не успел коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал и, откуда ни возьмись, вынырнула и остановилась возле него давешняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все: все прожектора, все окна, все фары, и добрый десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светящимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном, человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орет надрывно: – Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори! Закаченные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет: – Коридор... Коридор вижу... Они уходят... Он замолкает, и глаза его вновь закатываются. – Дальше! Дальше! – надрывается главный. – Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори! – Малыш... – бормочет пострадавший. – Малыш и Карлсон... По коридору... Длинный... Тут взор его окончательно проясняется, он отпихивает от себя главного и садится. – Все. Проехало, – говорит один из санитаров. Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик. – Спасибо, – запинаясь, бормочет пострадавший. – Ох, большое спасибо. А в толпе хоть бы кто голову повернул.
Лора, бывшая жена Нурланна, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портьерами, закрывающими окна, обширные темные лужи. – Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмениваться резкостями, – говорит Лора. – У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпение. Он должен прийти с минуты на минуту. – Прекрасно, – произносит надменно Нурланн. – Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма? – Прекрасно, – в тон ему произносит Лора. – Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает большие успехи в муниципальной гимназии и что ее лучший друг – сын гостиничного швейцара. – Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу. – Ну конечно, было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получала образование в Женеве или хотя бы в Президентском колледже в столице... Мы же демократы! Мы плоть от плоти народа! Нурланн не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурланн не сразу соображает, что это тот самый проповедник, который давеча вещал с регулировочной тумбы. – Знакомьтесь, – произносит Лора. – Мой адвокат. А это – мой бывший муж, профессор Нурланн. – Прошу прощения, я несколько опоздал, – говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь. – Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись. Нурланн молча берет бумагу и начинает читать. Брови его задираются. Он поднимает глаза на Лору. – Позволь, – несколько растерянно говорит он. – На кой черт тебе это надо? Кому какое дело? – Тебе трудно поставить подпись? – холодно осведомляется Лора. – Мне не трудно поставить подпись. Но я хотел бы понять, на кой черт это нужно? И потом, это все вранье! Ты никогда не была верной женой. Ты никогда не ходила в церковь. Аборты ты делала! Только в мое время ты сделала три аборта! – Господа, господа, – примирительно вступает адвокат. – Не будем горячиться. Профессор, я знаю, вы атеист. Ваша подпись под этим документом не может иметь для вас никакого значения. Она ценна только для моей клиентки. И не из юридических, а исключительно из религиозных соображений. Считайте свою подпись под этим документом просто актом прощения, актом братского примирения... Он замолкает, потому что в глубине квартиры раздается какой-то лязг, дребезг, звон разбитого стекла. Нурланн еще успевает заметить, как внезапно побелело и осунулось лицо Лоры, как пришипился, втянув голову в плечи, клетчатый адвокат, но тут дверь в гостиную распахивается, словно от пинка ногой, и на пороге возникает Ирма. Это девочка-подросток лет пятнадцати, высокая, угловатая, тощая, на ней что-то вроде мини-сарафана, короткая прическа ее схвачена узкой белой лентой, проходящей через лоб. Босая. И мокрая насквозь. Но ничего в ней нет от «мокрой курицы», она выглядит, как если бы в очень жаркий день с наслаждением искупалась и только что вышла из воды. Лора и адвокат встают. Физиономии их выражают покорность, в них что-то овечье. Ирма с бешенством произносит: – Я двадцать раз просила тебя, мама, не закрывать окна в моей комнате! Что прикажешь мне делать? Выбить их совсем? Я выбила одно. В следующий раз выбью все. Лора, совершенно белая, пытается что-то сказать, но из горла ее вырывается только жалобный писк. Адвокат, втянувши голову в плечи, смотрит себе под ноги. Ирма обращает взгляд на Нурланна. Тоном ниже, без всякой приветливости, произносит: – Здравствуй, папа. – Здравствуй, здравствуй, – говорит Нурланн озадаченно. – Что это ты сегодня так развоева... Ирма прерывает его: – Мы с тобой еще поговорим, папа. Может быть, уже сегодня вечером. Ты нам нужен. И вновь – матери: – Я в двадцать первый раз повторяю: не закрывай окна в моей комнате. В двадцать первый и последний. Она поворачивается и уходит. Воцаряется неловкая тишина, и адвокат, криво ухмыляясь, говорит: – Дети – дар божий, и дети – бич божий. И тут Лора срывается. – Ну что – доволен? – визжит она, перегнувшись через стол к Нурланну. – Видел, как твоя дочь плюет мне в лицо? Как вытирает об меня ноги, словно не мать я ей, а половая тряпка? Тебе, наверное, тоже захотелось? Плюй! Топчи! Унижай! Не надо со мной церемониться! Да, я грешница, я грязь, я сосуд мерзостей! Я убивала нерожденных младенцев моих, я блудила, я ненавидела тебя и блудила, с кем только могла! Я смеялась над Богом... я, тля ничтожная! Это ты, ты научил меня смеяться над Богом! А теперь втаптываешь меня в ад, в вечный огонь... В серу меня смердящую, в уголья! Дождался! Вон она, тьма страшная, кромешная, надвигается на мир! Сколько еще дней осталось? Кто скажет? Это Суд идет! Последний Суд! Все перед ним предстанем, и спросится с тебя, зачем не простил женщину, которая была с тобою единой плотью и кровью, зачем толкнул ее в пропасть, когда одной лишь подписи твоей хватило бы, чтобы спасти ее! Лжец! Лжец! Чистая я! Перед Последним Судом говорю, я – чистая! Не было ничего, клевещешь! Подписи пожалел, единого росчерка! – Да провались ты... – бормочет ошеломленный Нурланн и хватается за авторучку.
Вечер. На улицах тьма кромешная. Дождь льет как из ведра, а молний почему-то нет. Нурланн ведет машину по пустым улицам. Дворники не справляются с водой. Уличные фонари не горят, и лишь в редких окнах по сторонам улицы виден свет. В свете фар появляются посередине улицы какие-то неопределенные фигуры. Нурланн совсем сбрасывает газ и наклоняется над рулем, пытаясь разобрать, что же там происходит за серебристыми в свете фар струями дождя. А происходит там вот что. Половину мостовой занимает большой легковой автомобиль, стоящий с погашенными огнями и распахнутыми дверцами. На другой половине двое здоровенных мужиков в блестящих от воды плащах пытаются скрутить мальчишку-подростка, который отчаянно извивается, брыкается длинными голыми ногами, отбивается острыми голыми локтями, крутится вьюном – и все это почему-то молча. Лимузин Нурланна останавливается в пяти шагах от этой потасовки, фары его в упор бьют светом, и тогда один из мужиков бросает мальчишку и, размахивая руками, орет: – Назад! Пошел отсюда! Мотай отсюда, дерьмо свинячье! Поскольку ошеломленный Нурланн и не думает мотать отсюда, просто не успевает подчиниться, мужик в бешенстве бьет кованым сапогом по правой фаре и разбивает ее вдребезги. Это он зря. – Ах ты сволочь, – произносит Нурланн, достает из-под сиденья монтировку и вылезает под дождь. Он не трус, наш Нурланн. Но откуда ему знать, что он имеет дело с профессионалом? Ленивым движением мужик в блестящем плаще уклоняется от богатырского удара монтировкой. В глазах у Нурланна вспыхивают огненные колеса, и наступает тьма.
Четверть века назад подросток Нурланн поздним вечером возвращался из кино домой этим самым переулком. Навстречу ему вышел из подворотни могучий шестнадцатилетний дебил по прозвищу Муссолини. Не говоря ни единого слова, он ухватил Нурланна двумя пальцами за нос, стиснул так, что у того слезы из глаз брызнули, а свободной рукой обшарил деловито его карманы. Вся операция не заняла и минуты. Муссолини скрылся в подворотне, а маленький Нурланн, опозоренный, униженный и ограбленный, остался стоять в темноте с вывернутыми карманами. Слезы текли неудержимо, и вдруг подул ветер и дождь брызнул ему в лицо...
– Профессор... Профессор... Очнитесь, профессор! Тьма расходится перед глазами Нурланна, и он видит близко над собой мокрое мальчишеское лицо, большеглазое, со свежей ссадиной на скуле. Волосы схвачены белой лентой. Это не тот мальчик. Тот был в красном, а на этом черная безрукавка и черные шорты. Еще один голоногий и голорукий мокрый мальчик. Нурланн, охая и кряхтя, садится, ощупывает себя. Все болит: печенки, селезенки, кишки. Машина его стоит на прежнем месте, освещая уцелевшей фарой пустую мостовую. – А эти где? – спрашивает Нурланн. – Уехали, – отвечает мальчик. Он сидит перед Нурланном на корточках, озабоченно оглядывая его лицо. – А мальчик где? – Вы можете встать? – спрашивает мальчик вместо ответа. Нурланн с трудом поднимается на ноги, делает шаг к лимузину и хватается за дверцу, чтобы не упасть. – Надо же, как он меня... – Давайте я сяду за руль, – говорит мальчик. – Валяй. Мне нужно в «Метрополь». – Я знаю, – говорит мальчик. – Садитесь, я вас отвезу.
Лимузин катит по улицам. – Что это было? – спрашивает Нурланн. – Кто эти громилы? Мальчик, не сводя глаз с дороги, отвечает после паузы: – Не знаю. – Чего они к нему прицепились? Он что-нибудь натворил? Пауза. – Может быть. Только это никого не касается. – Он удрал? Пауза. – Нет. – Значит, в полицию сдали... Это твой приятель, надо понимать. Я вижу, тебе тоже попало. Мальчик не отвечает, только осторожно поглаживает ссадину на скуле. – Так что же вы все-таки натворили? – спрашивает Нурланн. – Ничего особенного. – А если ничего особенного, тогда поехали в полицию вызволять твоего приятеля. Заодно хотелось бы узнать, кто мне разворотил фару и отбил печенки. – Нет, – твердо произносит мальчик. – Я не могу тратить время на полицию.
Лимузин останавливается перед отелем «Метрополь». Это огромное многоэтажное здание. Несколько редких светящихся окон, и еще свет падает сквозь застекленные двери в вестибюль. – Спасибо, – говорит Нурланн. – Кстати, как тебя зовут? – Циприан. – Очень рад. Нурланн. Между прочим, Циприан, откуда ты все знаешь? Откуда знаешь, что я профессор, что я здесь живу? – Мы дружим с вашей дочерью. – Ага. Очень мило. Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь? – Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Мне нужно позвонить. Вы позволите?
Они проходят сквозь вращающуюся дверь в вестибюль, мимо швейцара, приложившего при виде Нурланна два пальца к форменной фуражке, мимо богатых статуй с электрическими свечами. В вестибюле никого больше нет, только портье сидит за стойкой. Пока Нурланн берет у портье ключи, у входа происходит разговор. – Ты зачем сюда вперся? – шипит швейцар на Циприана. – Меня пригласил профессор Нурланн. – Я тебе покажу профессора Нурланна, – шипит швейцар. – Манеру взял – по ресторанам шляться... – Меня пригласил профессор Нурланн, – повторяет Циприан терпеливо. – Ресторан меня не интересует. – Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал! Вот я тебя отсюда вышвырну, чтобы не разговаривал... Нурланн оборачивается к ним. – Э-э... – говорит он швейцару. – Парнишка со мной. Так что все в порядке. Швейцар ничего не отвечает, лицо у него недовольное.
У себя в номере Нурланн прежде всего сбрасывает мокрый плащ и сдирает с ног отсыревшие туфли. Циприан стоит рядом, с него капает, но и он, как давеча Ирма, отнюдь не выглядит «мокрой курицей». – Раздевайся, – говорит ему Нурланн. – Сейчас я дам полотенце. – Разрешите, я позвоню. – Валяй. Нурланн, пришлепывая мокрыми носками, уходит в ванную. Раздеваясь там, растираясь купальной простыней и с наслаждением натягивая сухое, он слышит, как Циприан разговаривает – негромко, спокойно и неразборчиво. Только однажды, повысив голос, он отчетливо произносит: «Не знаю». Затягивая пояс халата, Нурланн выходит в гостиную и с изумлением обнаруживает там дочь Ирму; Циприан по-прежнему стоит у дверей, и с него по-прежнему капает. Ирма расположилась боком в кресле, она перекинула мокрые голые ноги через подлокотник. – Здрасьте! – говорит Нурланн, впрочем, обрадованный. – Слушай, папа, – капризным голосом произносит Ирма. – Где тебя носит? Я тебя двадцать часов жду! – Где меня носит... Циприан, где меня носит? Иди в ванную и переоденься. Обсушись хотя бы. – Что вас всех будто заклинило, – говорит Ирма. – Обсушись, оботрись, переоденься, не ходи босиком... – Ну, мне кажется, это естественно, – благодушно произносит Нурланн, доставая из бара бутылку и наливая себе в стакан на два пальца. – Если мокрый человек... – То, что наиболее естественно, – негромко говорит Циприан, – наименее подобает человеку. Нурланн застывает со стаканом на полпути ко рту. – Естественное всегда примитивно, – добавляет Ирма. – Амеба – да, она естественна. Но человек – существо сложное, естественное ему не идет. Нурланн смотрит на Ирму, потом на Циприана, потом в стакан. Он медленно выцеживает бренди и принимает вызов. – Ну, разумеется, – говорит он. – Поэтому давайте колоться наркотиками, одурять себя алкоголем, это ведь противоестественно. Пусть будут противоестественные прически, противоестественные одежды, противоестественные движения... Ирма прерывает его: – Нет! Противоестественное – это просто естественное навыворот. Мы говорим совсем не об этом... Нурланн перебивает в свою очередь. – Я не знаю, о чем вы говорите, – объявляет он покровительственно. – Зато я знаю, о чем вам следовало бы говорить. Не убий. Не укради. Не сладострастничай. Люби ближнего своего больше себя. Кумира себе не сотвори, лидера, пастыря, интерпретатора... Вот правила воистину неестественные, и они-то более всего подобают человеку. Не так ли? Тогда почему же на протяжении двадцати веков они остаются красивыми лозунгами? Разменной монетой болтунов и демагогов... Нет, мокренькие вы мои философы. Не так все это просто. Никому еще пока не удалось придумать, что подобает человеку, а что – нет. Я лично думаю, что ему все подобает. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным мозгом. С этими словами он торжествующе наливает себе еще на два пальца и опрокидывает стакан залпом. Циприан и Ирма переглядываются. – Вполне, – говорит Циприан. – А я тебе что говорила? – Ну, тогда я пойду. – Подожди... Папа, – Ирма поворачивается к Нурланну, – мы приглашаем тебя поговорить. – Говорите, – благодушно предлагает Нурланн. – Нет. Не здесь. Наши ребята хотят с тобой встретиться. Ненадолго, на час-полтора. Пожалуйста. – Почему со мной? Что я вам – модный писатель? – С модным писателем мы уже встречались, – говорит Ирма. – А ты – ученый. Ты приехал спасать город. У нас есть к тебе вопросы. Именно к тебе. – Видишь ли, у меня очень мало времени. Давайте лучше я отвечу на эти вопросы вам. Прямо сейчас. Мне даже вопросы можно не задавать. Тучу я намерен уничтожить в течение пяти-семи дней. Можете быть совершенно спокойны. Будет применен сравнительно новый коагулянт под игривым названием... – Нет, папа, – качает головой Ирма. – Как раз это нас не интересует. Вопросы к тебе у нас совсем другие. – Какие? Я больше ничего не знаю. – Папа, ну пожалуйста! – Мы вас очень просим, профессор, – присоединяется Циприан. – Хорошо, – решается Нурланн. – Тогда завтра. Между двенадцатью и двумя. Где? – В гимназии. Тебя устроит? – В которой? – В нашей... и в твоей тоже. Где ты учился. – Где я учился... – задумчиво произносит Нурланн. – О, забытые ароматы мела, чернил, никогда не оседающей пыли... изнурительные допросы у доски... О, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенных в принцип! Договорились. – Ну, тогда я пошел, – снова говорит Циприан. Нурланн неохотно поднимается с кресла. – Подожди, я тебя провожу. А то наш швейцар что-то тебя невзлюбил. – Не беспокойтесь, профессор, – говорит Циприан. – Все в порядке. Это мой отец.
Ресторан отеля «Метрополь». Огромная зала, уставленная накрытыми столиками, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь, цветы. Возле каждого столика торшер, но горит только один – у столика, за которым ужинают Нурланн, Брун и их школьный друг, ныне известный поэт и бард Хансен. – Разом сработало великое множество независимых факторов, – объясняет Нурланн. – Выбросы ядерных станций на севере. Раз. На юге пятьдесят лет коптят небо металлургические заводы. Два. На западе загубили Страну Озер, бездарно разбазарили на мелиорацию. Плюс ко всему этому – специфическая роза ветров этого района. И еще какие-то факторы, которые наверняка действуют, но мы о них не догадываемся. Мы многого пока не понимаем... – Ни черта мы не понимаем, – злобно прерывает Брун. – Невинное аэрозольное образование! Анализы не дают никаких оснований для паники! Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась! Три! – Он выставляет три пальца. – И ни один профессор пока не объяснил – почему. – Да, – соглашается Нурланн. – В активной зоне – там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется... – Погоди, – говорит ему Хансен. – Я сейчас все объясню.
На самом деле было так. В доходном доме рядом с химическим заводом жил многосемейный коллежский секретарь Нурланн. Обстоятельства его: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во все инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные. Целые семьи покидают квартиры и уходят бродяжничать. В газетах появляется некролог по случаю преждевременной кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротивления миномет и двадцать два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним как на ладони. В свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью», – шепчет коллежский секретарь и открывает огонь. В этот день он не идет на службу. На следующий день – тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках перед слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя...» Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончаются – осталось три штуки. Он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками. Выбитые окна зияют. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины. Двор перерыт сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего снуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!». В полном отчаянии коллежский секретарь выпустил последние три мины, и вот тут-то все и началось. – Что именно? – спрашивает Нурланн. – Лопнуло, – поясняет Хансен. – Лопнуло у них терпение. Сколько можно? Он пьян, и Нурланн говорит снисходительно: – Очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая. – Да, муниципальная площадь, – соглашается Хансен. – Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади: тринадцатый век – восстание «серых», за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских, кровь забила водостоки и разлилась по всему городу; пятнадцатый век – инквизиция, разом сожгли полтораста семей еретиков, в том числе триста двенадцать детей, небо было черное, неделю падал на город жирный пепел; двадцатый век – оккупация, расстрел тысячи заложников, в том числе двадцати семи детей, трупы лежали на брусчатке одиннадцать дней... Двадцатый век! А бунт сытых в шестьдесят восьмом? Две тысячи сопляков и соплячек под брандспойтами, давление пятьдесят атмосфер, сто двадцать четыре изувеченных, двенадцать гробов... Сколько же можно такое выдержать? Вот и лопнуло. – Да что лопнуло-то? – с раздражением спрашивает Брун. – Опять ты надрался... – Брун, – укоризненно-весело произносит Нурланн, – ты не способен этого понять. Классическая коллизия: поэт и санинспектор. – Это все дожди, – заявляет Хансен. – Мы дышим водой. Шесть месяцев этот город дышит водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. А дождь все будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать, и когда земля напитается, тогда взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной... – О боже! – восклицает Брун. – О чем ты говоришь? – Я говорю о будущем, – с достоинством пьяного отвечает Хансен. – О будущем... – Брун кривит губы. – Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают! Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее – это просто тщательно обезвреженное настоящее. – Точка зрения санитарного инспектора, – бросает Нурланн. И тут по неподвижному лицу Хансена полились слезы. – Они очень молоды, – произносит он чистым ясным голосом ни с того ни с сего. – У них впереди все, а у меня впереди – только они. Кто спорит, человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек... И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы...
На другое утро Нурланн вылетает на вертолете обозреть Тучу сверху. То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша городского банка с размеченной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался... – Что это такое? – кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор. – Туча, – отвечает пилот меланхолично. – Откуда вода? Вы видите воду? – Нет. Вижу Тучу... молнии... воронка какая-то крутится над серединой... А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов... Миражи. Только у каждого свой.
Поперек проспекта Реформации, который все почему-то называют теперь Дорогой чистых душ, высится массивная триумфальная арка, увенчанная гербом города: ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона с тремя человеческими головами. Вдали за пеленой дождя едва угадывается черная стена Тучи. Все пространство между аркой и Тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов: идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят под арку и дальше вверх по проспекту. Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «корсар», возле них, собравшись кучками, курят в кулак нахохленные экипажи в плащ-накидках. Рядом с аркой группа начальства: Нурланн, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурланн держит над собой зонт, остальные мокнут. Нурланн говорит ассистенту, указывая на верхушку арки: – Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы. Полагаю, что места хватит. – Там будет мой наблюдательный пункт, – произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому. Нурланн бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту: – Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна. – К сожалению, ничего не выйдет, профессор, – отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера. – Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона. – Не возражаю, – благосклонно кивает Нурланн. – Извольте распорядиться, – говорит он офицеру. – У меня нет приказа, – говорит тот, едва разжимая губы. – Вот я вам и приказываю, – отчеканивает Нурланн. – А вы мне не начальник. И если вы попытаетесь что-нибудь поставить у меня на командном пункте, велю все сбросить вниз. Нурланн, словно не слыша его, говорит ассистенту: – Я буду здесь в семнадцать тридцать. Все должно быть готово и отрегулировано. Тут вступает второй офицер. С виноватым видом он говорит – и непонятно, то ли правду говорит, то ли издевается над высокомерным шпаком: – Я имею приказ к семнадцати ноль-ноль установить вокруг дивизиона оцепление и никого не пропускать. Тогда Нурланн поворачивается к офицерам, и такого Нурланна они видеть не ожидали. – Вы, государи мои, – негромко говорит он, – плохо понимаете свое положение. Здесь командую я, и вы будете выполнять любое мое приказание. А пока меня нет, вы будете выполнять приказания вот этого господина. – Он показывает на ассистента.
В вестибюле гимназии Нурланна поджидает сутулый старик в вицмундире. Это нынешний директор гимназии, но Нурланн помнит его еще своим классным наставником. Четверть века назад это был тиран, одним взглядом своим внушавший гимназистам непереносимый ужас. – Какая честь, какая честь, профессор! – блеет директор, надвигаясь на Нурланна с простертыми дланями. – Какая честь для доброй старой альма-матер! Орел навестил свое родовое гнездо! Знаю, знаю, вас ждут, и не задержу вас даже на одну лишнюю минуту. Позвольте представить вам: мой поверенный в делах... – Мы уже знакомы, – говорит Нурланн, с изумлением обнаруживая за спиной директора клетчатую фигуру адвоката-проповедника. – Совершенно верно, – мягко произносит адвокат, берет Нурланна под руку и увлекает его к барьеру пустующей раздевалки. – Аналогичное дело, профессор, если вам будет благоугодно... На барьере лежит знакомый бювар и знакомая авторучка. Нурланн берет из бювара листок с текстом, пробегает его глазами и смотрит на адвоката. Тот легонько пожимает плечами. – Я только заверяю подпись, и больше ничего. Я целыми днями хожу по городу и заверяю подписи. Тогда Нурланн поворачивается к директору. – Господин классный наставник, – говорит он. – Поймите, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Ведь вы не религиозный маньяк, вы просвещенный человек. Во-первых, вот это, – он трясет листком, – сплошное вранье. Вы никогда не были добрым наставником юношества, вы были аспид сущий, вы были дракон, вы были семь казней египетских для нас, несчастных и нечестивых. И правильно! Только так с нами и можно было! Либо вы нас, либо мы вас. Почему вы этого теперь стыдитесь? И потом. Ну, пусть Страшный Суд. Неужели вы всерьез верите, будто на Страшном Суде эта бумажка, эта закорючка, которую вы у меня просите, может что-нибудь изменить! Адвокат торопливо вмешивается: – Этот вопрос на самом деле очень и очень сложен... Но директор перебивает его. Голова его трясется, и усы обвисают, как мокрые, и старческие глаза слезятся. – Молодой человек, – говорит он Нурланну. – Пройдет время, и вы тоже состаритесь. Когда вы состаритесь, вам придет пора умирать. А тогда вы обнаружите, что на очень многие вещи вы смотрите совсем иначе, чем сейчас, когда вы здоровы, энергичны и вас ждут великие дела. И не приведи вам Бог ждать конца своего в такую страшную годину, как наша. – Ты победил, галилеянин, – произносит Нурланн и берется за авторучку. В актовом зале гимназии огромные окна распахнуты настежь, половина зала залита водой. С окон, с потолка, с люстр свешиваются пучки разноцветных нитей, и поэтому зал несколько напоминает подводную пещеру. Стулья стоят в полном беспорядке, и так же как попало и где попало расселись на этих стульях три десятка девчонок и мальчишек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Все они голоногие и голорукие, у многих длинные волосы схвачены белой ленточкой через лоб, у некоторых на безрукавках с правой стороны нашит черный силуэт бабочки, не сразу понимаешь, что это очертание Тучи, как она видится сверху. Нурланн стоит на кафедре, все глаза устремлены на него. Одни смотрят со спокойным ожиданием, другие – с явным интересом, третьи с неприязнью, а некоторые с таким выражением, будто ждут, чтобы он поскорее отговорил и ушел и можно было бы заняться более важными делами. Циприан и Ирма сидят в сторонке у стены. Нурланн с непринужденностью человека, привыкшего к публичным выступлениям, говорит: – Как вам, может быть, известно, я и сам четверть века назад учился в этой гимназии. В этом зале и с этой кафедры я сделал свой первый в жизни научный доклад. Он назывался «О чувствительности рогатой гадюки к изменению среды обитания». Вторжение большой науки в мир моих одноклассников имело единственное последствие: преподавательницу зоологии с той поры наградили кличкой Рогатая Гадюка. Должен сказать, что это довольно обычное преломление достижений науки в сознании широких масс. Пауза. Две-три улыбки. Ну что ж, и это не так уж плохо. Правда, Ирма, кажется, недовольна. – То было хорошее время. Единственное, что нам тогда угрожало, – это семестровая контрольная по латыни. Сейчас, к сожалению, наше ближайшее будущее безоблачным не назовешь. Туча... Его прерывает смех. Он нахмуривается. – Я не собирался каламбурить. Ничего смешного тут нет. Город охвачен паникой, многие из ваших родителей испуганы до такой степени, что ждут Страшного Суда. Город на военном положении. Готовится эвакуация. Для этого есть кое-какие основания, однако положение совсем не так плохо, как это вам, может быть, представляется. Что такое на самом деле Туча? Представьте себе... Посредине зала воздвигается толстенький подросток с прекрасными синими глазами. – Господин профессор, – говорит он. – Про Тучу мы все знаем. Не надо про Тучу. – Вот как? – Нурланн прищуривается на него. – И что же вы знаете про Тучу? Вопрос этот повисает в воздухе. Его пропускают мимо ушей. – Меня зовут Миккель, – объявляет толстенький подросток. – Разрешите задать вопрос. Нурланн пожимает плечами. – Задавай. – Что такое, по-вашему, прогресс? – При чем здесь прогресс? – с недоумением и раздражением спрашивает Нурланн. – Одну минуту, – громко произносит Циприан и встает. – Господин Нурланн, разрешите, я объясню. Мы бы не хотели сейчас затрагивать частные вопросы. Только общие. Самые общие. Мы обращаемся к вам не как к физику, а как к представителю авторитетной социальной группы. Мы многого не понимаем, и мы хотели бы узнать, что думают сильные мира сего. – Послушайте, – говорит Нурланн. – Каждый должен заниматься своим делом. Если вам хочется знать, что такое прогресс, обратитесь к социологу, к философу... При чем здесь я? – Социолога мы уже спрашивали, – терпеливо говорит Циприан. – Мы его поняли так, что никто толком не знает, что такое прогресс. Вернее, существуют разные мнения... – Вот мы и хотим знать ваше мнение по этому поводу, – подхватывает Миккель. – Только мнение, больше ничего. Некоторое время Нурланн смотрит на него, затем говорит: – Хорошо, пожалуйста. Прогресс есть непрерывное увеличение знаний о мире, в котором мы живем. – Любой ценой? – звонко спрашивает смуглая девочка, и в голосе ее звучит не то горечь, не то ненависть. – При чем здесь цена? Конечно, существуют запреты на определенные приемы и методы; скажем, можно платить своей жизнью, но нельзя чужой, и так далее. Но вообще говоря, прогресс – штука жестокая, и надо быть готовым платить за него, сколько потребуется. – Значит, может быть безнравственный прогресс? – Это тощая девочка прямо перед Нурланном. – Не может, но бывает, – парирует Нурланн. – Прогресс, повторяю, – это штука жестокая. Встает Миккель. – Ваш прогресс – это прогресс науки. А человек? – Это все связано. Прогресс науки – прогресс общества. Прогресс общества – прогресс человека. – Вы верите в то, что говорите? – осведомляется Миккель. – Это же несерьезно. – Почему несерьезно? – изумляется Нурланн. – Потому что прогресс науки есть определенно. Прогресс общества? Возможно. А уж прогресса человека – точно нет. Нурланн слегка сбит с толку. – Н-ну... Это, наверное, все же не так... Есть все же разница между нами и... Его перебивают. – Какими вы бы хотели видеть нас в будущем? Нурланн совсем теряется и поэтому ожесточается: – Вас? В будущем? С какой стати я должен по этому поводу что-либо хотеть? Все смеются. – В самом деле, – говорит Нурланн, несколько приободрившись. – Странный вопрос. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду. Так вот, я хотел бы, чтобы вы летали к звездам и держались подальше от наркотиков. Пауза. Все ждут, что он скажет дальше. Нурланн сам ощущает острую недостаточность своего ответа, но он и впрямь не знает, что сказать. – И это все? – спрашивает тощенькая девочка. Нурланн пожимает плечами. По залу пробегает шум. Ребята переглядываются, вполголоса обмениваются репликами. Поднимается Циприан. – Разрешите мне. Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается теми же темпами, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов за ненадобностью. Из сферы обслуживания тоже. Все сыты, никто друг друга не топчет, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, миллион человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых... Ну, и летающих к звездам тысяч сто. Но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо, как вы полагаете? – Не знаю, – говорит Нурланн сердито. – Это и не хорошо, и не плохо. Это либо возможно, либо невозможно. Нелепо ставить отметки социологическим законам. Хорош или плох второй закон Ньютона? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов – это хорошо или плохо? – Наверное, я неправильно выразился, – вежливо отвечает Циприан. – Я хотел спросить: нравится ли вам лично такое состояние общества? Или вот вопрос еще более общий: какое состояние общества представляется лично вам наиболее приемлемым? – Боюсь, я разочарую вас, – высокомерно произносит Нурланн. – Меня лично вполне устраивает нынешнее состояние общества. Смуглая девочка яростно говорит: – Конечно, ведь вас устраивает, что можно схватить человека, сунуть его в каменный мешок и вытягивать из него все, пока он не умрет! Нурланн пожимает плечами. – Ну, это никому не может нравиться. Я понимаю, вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на его костях построить новый. Однако имейте в виду, это очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушить, – например, тайная полиция, – особенно легко приспосабливается к разрушению, жестокости, беспощадности, становится необходимым и непременно сохраняется, делается хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. – Боюсь, вы нас неправильно понимаете, господин профессор, – возражает Миккель. – Мы вовсе не собираемся разрушать старый мир. Мы собираемся строить новый. Только строить! Ничего не разрушать, только строить. – За чей счет? – насмешливо спрашивает Нурланн. – Этот вопрос не имеет смысла для нас. За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд. – В точности как все, кто был до вас, – говорит Нурланн. – Нет, потому что они вытаптывали траву, рассеивали облака, останавливали воду... Вы меня поняли буквально, а это лишь аллегория. – Ну что ж, валяйте, стройте, – говорит Нурланн. – Не забывайте только, что старые миры не любят, когда кто-то строит новые. Они сопротивляются. Они норовят помешать. – Нынешний старый мир, – загадочно произносит Циприан, – нам мешать не станет. Ему, видите ли, не до нас. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться. – Что ж, тем лучше, – говорит утомленно Нурланн. – Очень рад, что у вас все так удачно складывается. А сейчас я хотел бы уточнить относительно прогресса... Но Миккель прерывает его: – Видите ли, господин профессор, я не думаю, чтобы это было нужно. Мы уже составили представление. Мы хотели познакомиться с современным крупным ученым, и мы познакомились. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо. Раздается гомон: «Спасибо... Спасибо, господин Нурланн...», зал понемногу пустеет, а Нурланн стоит на кафедре, стиснув ее края изо всех сил, и чувствует себя болваном, и знает, что красен и что вид являет собой растерянный и жалкий.
Проспект между триумфальной аркой и черной стеной Тучи пуст. На тротуарах и на мостовой огромное количество брошенных зонтиков – это все, что осталось от эвакуированных. Три «корсара» в боевой готовности выстроены шеренгой под аркой, пространство вокруг арки оцеплено солдатами в плащ-накидках, а за оцеплением волнуются толпы Агнцев Страшного Суда в клетчатых балахонах. Дождь не очень сильный, и с вершины триумфальной арки черная стена Тучи видна вполне отчетливо. На часах без двух минут шесть. Нурланн смотрит на Тучу в бинокль. Ассистент застыл на корточках у приборов. В нескольких шагах от него стоит, расставив ноги и перекатываясь с носка на пятку, командир дивизиона. Рядом с ним радист с микрофоном у рта. – Синхронизации хорошей не получится, – с улыбочкой сообщает ассистент. – Это несущественно, – отзывается Нурланн сквозь зубы. – Готовность шестьдесят, – бросает командир дивизиона. – Готовность пятьдесят девять, – бормочет в микрофон радист. В этот момент Нурланн вдруг обнаруживает в поле зрения бинокля две человеческие фигурки. – Что за черт! – говорит он громко. – Там люди! – Где? – Командир дивизиона утыкается лицом в нарамник стереоприцела. – Это дети, – говорит Нурланн сердито. – Отмените стрельбу. В поле зрения его бинокля отчетливо видны двое ребят, голоногих и голоруких, они идут к Туче, причем один оживленно размахивает руками, словно что-то рассказывает. – Где вы кого видите? – рявкает командир. – Да вон же, у самой Тучи, посередине проспекта! – Нет там никого! Пусто! – Никого нет, профессор, – подтверждает ассистент. Нурланн дико глядит на него, потом на командира. – Отменить стрельбу! – хрипло кричит он и бросается к лестнице. Это железная винтовая лестница в одной из опор арки, в мрачном каменном колодце с осклизлыми стенами. Нурланн сыплется вниз по ступенькам, судорожно хватаясь то за ржавые перила, то за сырые плиты стен. Сверху, наклонившись в колодец, командир дивизиона орет ему вслед: – Еще чего – отменить! Надрался, понимаешь, до чертиков и еще командует... Нурланн бросается в лимузин, машина с диким ревом устремляется в пустой каньон проспекта, расшвыривая зонтики. Он уже простым глазом видит двух подростков на фоне черной стены, и тут... Багровым светом озаряются стены домов, и над самой крышей лимузина, над самой головой Нурланна с раздирающим скрежетом и воем проносятся к черной стене огненные шары ракетных снарядов. Нурланн инстинктивно бьет по тормозам, машину несколько раз поворачивает по мокрому асфальту, и, когда Нурланн на дрожащих ногах выбирается из-за руля, он видит впереди, на сколько хватает глаз, абсолютно пустой, абсолютно сухой, слегка дымящийся проспект, и нет больше ни черной стены, ни детей. Шепча молитву, Нурланн долго смотрит на то место, где только что были дети, а тем временем, прямо у него на глазах, справа, слева, сверху, словно беззвучная черная лавина, заливает открывшуюся прореху черная стена. В этот момент он окончательно приходит в себя. Лавина звуков обрушивается на него: ужасные вопли, свист, звон разлетающихся стекол, выстрел, другой... Он оборачивается. На позиции «корсаров» медленно кипит людская каша – Агнцы Страшного Суда, прорвав оцепление, лезут на «корсары», ломая все, что им под силу...
– Никого там не было! – гремит Брун. Он стоит посередине номера Нурланна, засунув руки за брючный ремень, а Нурланн, обхватив голову руками, скрючился в кресле. – Это мираж! Галлюцинация! Она обморочила тебя, она же морочит людей, это все знают. – Зачем? – спрашивает Нурланн, не поднимая головы. – Откуда я знаю – зачем? Мы здесь полгода бьемся как рыба об лед и ничего не узнали. Не хотела, чтобы ты в нее палил, вот и обморочила. – Господи, – вздыхает Нурланн. – Взрослый же человек... Он берет бутылку и разливает по стаканам. – Да, взрослый! – рявкает Брун. – А вот ты – младенец. Со своим детским лепетом про аэрозольные образования... Младенец ты, девятнадцатый век ты, Вольтер – Монтескье, рационалист безмозглый! Брун опрокидывает свой стакан, подтаскивает кресло и садится напротив Нурланна. – Слушай, – говорит он. – Ты же сегодня был в гимназии. Ты видел здешних детей. Ты где-нибудь когда-нибудь еще видел таких детей? Нурланн отнимает ладони от головы, выпрямляется и смотрит на Бруна. В глазах его вспыхивает интерес. – Ты что имеешь в виду? – спрашивает он осторожно. – Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это нашествие! Вот что ты попытайся понять. Ну, не понять, так хотя бы взять к рассмотрению как некую гипотезу. Нашествие! Только идет не марсианин и не мифический Антихрист, а кое-что вполне реальное. Будущее идет на нас. Бу-ду-ще-е! И если мы не сумеем принять немедленные меры, нас сотрут в порошок. Нам с ними не справиться, потому что они впереди нас на какие-то чертовы века! – Ты... вот что, – произносит Нурланн встревоженно. – Ты давай-ка успокойся. Налить тебе еще? – Не дожидаясь согласия, он разливает бренди. – Ты, брат, начал меня утешать, а теперь что-то сам уж очень возбудился. – В том-то и трагедия, – произносит Брун, мучительно сдерживаясь. – Нам, кто этим занимается, все кажется очевидным, а объяснить никому ничего невозможно. И понятно, почему не верят. Официальную бумагу напишешь, перечитаешь – нет, нельзя докладывать, бред. Роман, а не доклад... Тут дверь распахивается, и в номер без стука входит Хансен. – Проходи, – бросает он кому-то через плечо, но никто больше не появляется, а Хансен с решительным видом подступает к Бруну и останавливается над ним. – Мой сын рассказывает мне о твоей деятельности странные вещи, – говорит он. – Как прикажешь это понимать? – Что там еще стряслось? – раздраженно-устало произносит Брун, не глядя на него. – Твои громилы хватают детей, бросают их в твои застенки и там что-то у них выпытывают. Тебе известно об этом? – Чушь. Болтовня. – Минуточку! – говорит Хансен. – У моего сына много недостатков, но он никогда не врет. Миккель! – обращается он в пустоту рядом с собою. – Повтори господам то, что ты рассказал мне. Наступает тишина. Брун пытается что-то сказать, но Хансен орет на него: – Заткнитесь! Извольте не перебивать! И снова тишина. Слышен только шум дождя за окном. На лице Нурланна явственно написано: в этом мире все сошли с ума. У Бруна лицо каменное, он смотрит в угол без всякого выражения. – Так, – говорит Хансен. – Что вы можете на это сказать? – Ничего, – угрюмо говорит Брун. – Но я требую ответа! – возвышает голос Хансен. – Если вы ничего не знаете об этом, извольте навести справки! Мальчик должен быть выпущен на свободу немедленно! Вы же слышали, он может умереть в любую минуту. Его нельзя держать под замком! – Он обращается к Нурланну. – Ты представляешь, Нурланн? Твою Ирму подстерегают вечерком в темном переулке, хватают, насильно увозят... И тут до Нурланна доходит. – Послушай, Брун, – говорит он встревоженно, – это же правда. Я своими глазами видел, как схватили мальчишку. Да я тебе рассказывал – разбили мне фару, дали по печени... а мальчишку, значит, увезли? – Идиоты, – говорит Брун сквозь стиснутые зубы. – Боже мой, какие болваны. Слепые, безмозглые кретины! Ни черта не понимают. Жалеют их. Это надо же – сопли пораспустили! Ну еще бы – они же такие умненькие, такие чистенькие, такие юные цветочки! А это враг! Понимаете? Враг жестокий, непонятный, беспощадный. Это конец нашего мира! Они обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека, для нас с вами, уже не останется. Вы думаете, если они цитируют Шпенглера и Гегеля, то это – о! А они смотрят на вас и видят кучу дерьма. Им вас не жалко, потому что вы и по Гегелю – дерьмо, и по Шпенглеру вы – дерьмо. Дерьмо по определению. И они возьмут грязную тряпку и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнут вас в мусорное ведро и забудут о том, что вы были... Брун являет собой зрелище странное и неожиданное. Он волнуется, губы его подергиваются, от лица отлила кровь, он даже задыхается. Он явно верит в то, что говорит, в глазах его ужасом стынет видение страшного мира. – Подожди... – бормочет Нурланн потерянно. – Дети-то здесь при чем? – Да при том, что мы ничего не знаем! А они знают все! Они шляются в Тучу и обратно, как в собственный сортир, они единственные, кто знает все. Может быть, они и не дети больше. Я должен знать, кто на нас идет, и в соплях ваших я путаться не намерен! – Вы негодяй, – холодно говорит Хансен. – Вы признаете, что схватили мальчика и пытаете его в своих грязных застенках? Брун вскакивает так, что кресло из-под него улетает в угол номера. – Тройной идиот! – шипит он, хватая Хансена за грудки. – Какие застенки? Какие пытки? Проклятое трепло! Пойдем, я покажу тебе застенки. Это недалеко, это не в подвале, это здесь, в министерском люксе... Он волочит за собой по коридору вяло отбрыкивающегося Хансена, Нурланн еле поспевает за ними. У последней по коридору двери они останавливаются. Брун стучит нетерпеливо. Дверь приоткрывается, внимательный глаз появляется в щели, затем дверь распахивается. Широко шагая, Брун проходит через холл, распахивает дверь в гостиную. В гостиной ковры, стол завален фруктами и блюдами со сластями, беззвучно мерцает экран гигантского телевизора, валяются в беспорядке видеокассеты. Номер огромен, в нем несколько комнат, одна роскошнее другой. Мальчика находят в последней комнате. Он лежит под окном в луже воды, уткнувшись лицом в пол, голоногий и голорукий подросток в красной безрукавке и красных шортах. Тот самый. Брун падает перед ним на колени, переворачивает на спину. – Врача! – кричит он хрипло. – Скорее!
Поздняя ночь. В холле отеля, едва освещенном слабой лампочкой над конторкой портье, сидят и разговаривают сквозь плеск дождя за окнами Нурланн и швейцар. – Что ваша ведьмочка, что мой сатаненок, – тихо говорит швейцар, – они одного поля ягоды. Что мы для них? Лужи под ногами. Даже хуже. Воду они как раз любят. Дай им волю, они бы из воды и не вылезали. Пыль мы для них, деревяшки гнилые... – Ну зачем же так, – говорит Нурланн. – Мне ваш Циприан очень понравился, замечательный парнишка. – Да? – Швейцар как бы приободряется. – А что, может, еще и породнимся... если так. Оба усмехаются, но как-то невесело. – Уж нас-то они не спросят, – говорит швейцар, – будьте покойны. Главное, никак я не пойму, лежит у меня к ним сердце или нет. Иногда прямо разорвал бы – до того ненавижу. А другой раз так жалко, так жалко их, ей-богу, слезы из глаз... Смотрю я на него и думаю: да он ли это? Мой ли это сын, моя ли кровь? Или, может, он уже и не человек вовсе? – Он наклоняется к Нурланну и понижает голос. – Говорят же, что ходят они в Тучу эту и обратно. Туда и обратно. Как хотят. Вот вы рассказываете: утром... Они же в Тучу шли! И вы не сомневайтесь, были они там, были! Офицеры – дураки, что они понимают? Слепые они. Это – таинство, так люди говорят. Это не каждому дано увидеть. Вот вам дано. Уж я не знаю, счастье это ваше или беда... – Да уж какое счастье, – произносит Нурланн, кривя лицо. – Получается, что я их убил... – Ну что ж, – говорит швейцар. – Значит, судьба ваша такая. Может быть, и вы. Только стоит ли огорчаться по этому поводу? Я не знаю. Убить-то вы, может, и убили, а вот кого? – Он совсем приникает ртом к уху Нурланна. – Знаете, что люди говорят? Детишки-то эти... в Тучу входят и тут же сгорают. А выходят оттуда уже не они. Обличьем похожи, но не они. Призраки выходят. Мороки. А потом смотришь ты на него и думаешь: да сын ли он мой? Моя ли это кровь? – Призраки, мороки... – бормочет Нурланн, уставясь перед собой. – Это все нечистая наша совесть. Убиваем мы их. Каждый день убиваем. И знаете почему? Не умеем мы с ними больше ничего делать. Только убивать и умеем. Всю жизнь мы только тем и занимались, что превращали их в таких, как мы. А теперь они отказываются превращаться, и мы стали их убивать.
Маленькому Нурланну не повезло с отцом. Отец был художником – огромный, громогласный, неумный и неописуемо эмоциональный человек. Он не желал слушать никаких оправданий, не терпел никаких объяснений и вообще ничего не понимал. Он не понимал шалостей. Он не понимал детских страхов. Он не понимал маленьких детских радостей. И в самых жутких кошмарах уже взрослого профессора Нурланна нависало вдруг над ним огромное, как туча, лицо. В нем все было огромно: огромные выпученные глаза, огромные усы, огромные волосатые ноздри и огромные колышущиеся волосы вокруг всего этого. Огромная, испачканная красками рука протягивалась и хватала маленького человечка за ухо, и волокла мимо огромных стульев и столов в распахнувшуюся тьму огромного чулана, и швыряла его туда, и рушились сверху какие-то картонки, какая-то рухлядь, и гремел засов, и наступала тьма, в которой не было ничего, кроме плача и ужаса...
В конце проспекта Реформации (он же Дорога чистых душ), в сотне метров от черной стены Тучи, мокрый клетчатый проповедник гремит, потрясая руками, над толпой мокрых клетчатых Агнцев Страшного Суда, понурых и жалких. На другой стороне проспекта Нурланн, тоже мокрый и тоже жалкий, скрючившись, сидит на краешке роскошного дивана, брошенного поперек тротуара у подъезда покинутого дома. – Город тот расположен четырехугольником! – гремит проповедник. – И длина его такая же, как и ширина... Стена его построена из ясписа, а город – чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены украшено всякими драгоценными камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолиф, восьмое – вирилл, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо светильник его – Агнец... Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет вовсе... Среди улиц его... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов... Пока он говорит, от толпы Агнцев один за другим отделяются адепты, человек десять или двенадцать, они идут один за другим к стене Тучи. Им очень страшно, одного трясет, будто в лихорадке, у другого безумные глаза и губы, закушенные до крови, какая-то женщина плачет, прикрыв лицо ладонями, и спутник ведет ее под руку, сам белый как простыня. – И принесут в него славу и честь народов! – ревет проповедник. – И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни! И ничего уже не будет проклятого! Прииди! Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром... Люди, идущие в Тучу, вдруг начинают петь. Сначала два жидких, неуверенных голоса, потом подхватывают третий и четвертый, и вот уже они поют все, с каждым шагом все более исступленно и уверенно. Это – псалом, это крик отчаяния и надежды, это исступленная попытка задавить в себе животный страх неизвестности. И они уходят в Тучу один за другим, и один за другим на полуслове замолкают голоса. И вот уже остается только один, поющий высоким козлетоном, какой-то калека, изо всех сил спешащий на костылях. Он погружается в тьму, голос его обрывается, и ничего больше не слышно, кроме плеска дождя. Нурланн, вскочивший от ужаса, медленно опускается на край дивана и закрывает лицо руками.
Темнеет. Зажглись редкие фонари вдоль проспекта Реформации. Черная стена Тучи стала ближе. Туча и в самом деле ведет себя, как подкрадывающееся животное. Только что стоял чуть покосившийся фонарный столб с разбросанными под ним перевернутыми зонтиками, наполненными водой, и вдруг что-то неуловимо меняется, и уже нет ни фонаря, ни зонтиков, а черная стена еще на пяток метров ближе, и большая лиловая молния проходит по ней наискосок. Нурланн сидит, где и прежде, на том же диване, глубоко засунув руки в проемы плаща, и смотрит на большую лужу, пузыристую от дождевых капель. В луже появляется пара ног в тяжелых армейских башмаках и пятнистых маскировочных штанинах. – Господин профессор, – произносит прокуренный голос. – Вас ждут в штабе. Полковник просит вас явиться в штаб. Нурланн поднимает глаза и видит перед собой молодцеватого вояку в берете набекрень, черноусого и чернобрового, с наглыми сержантскими глазами. – Передайте полковнику, – с трудом ворочая губами, произносит Нурланн. – Здесь нужно поставить заслон. Люди уходят туда и сгорают. Дети уходят. Нужен заслон. Вояка мельком взглядывает на Тучу и говорит: – Мы имеем приказ не вмешиваться в эти дела. – Заслон, – упрямо повторяет Нурланн. – Никого не пропускать! – Прикажут – поставим, – бодро говорит вояка. – Только вряд ли прикажут. А вас ждет полковник. Пожалуйте в машину. Нурланн некоторое время смотрит на него, затем говорит устало и злобно: – Оставьте меня в покое.
И уже совсем ночью озябший и измученный Нурланн слышит то ли сквозь дремоту, то ли сквозь бред и плеск дождя приближающийся странный разговор: – Свадебные машины катят к церкви! – с издевательской торжественностью произносит ломкий юный баритон. – Это не может не тревожить! – Мы научились критиковать религию! – в тон ему отзывается девчоночий голос. – Но не противопоставляем ей ничего своего, положительного. Критикуем обрядность, но не подкрепляем слово делом! – Человеку нужен обряд! – с издевательским пафосом произносит третий голос, этакий ядовитый тенорок. – Обряд дает выход как положительным, так и отрицательным эмоциям! И все трое говоривших, словно бы не выдержав, разражаются хохотом. Этот хохот так заразителен (хотя ничего смешного, казалось бы, не сказано), что Нурланн, не в силах поднять тяжелые веки, сам улыбается в полусне. – А вот папа сидит, – говорит девочка. Нурланн наконец просыпается. Перед ним стоят трое подростков, все трое знакомые: дочка его Ирма, сын швейцара Циприан и синеглазый сын Хансена Миккель. Как всегда, они мокры, полны скрытой энергии и сам черт им не брат. Отблески лиловых молний от близкой Тучи то и дело выхватывают из мокрой тьмы их мокрые физиономии. Нурланн с трудом встает. – Это вы. Я ждал вас. Не смейте туда ходить. – Отрекохом, – серьезно произносит Циприан. – Отрекохом от сатаны, от скверны. – Я не шучу, Циприан, – говорит Нурланн. – Но это же присно и во веки веков, – убеждающе произносит Миккель. – Во веки веков, профессор! – Ребятки! – проникновенно говорит Нурланн. – Вы одурманены. Вы как мотыльки. Мотыльки летят на свет, а вы летите на тьму. А там – смерть. И хорошо еще, если моментальная... Слушайте, давайте уйдем отсюда, присядем где-нибудь, поговорим спокойно, рассудительно. Это же как липучка для мух... Я вам все объясню. – Церковь, – серьезным голосом объявляет Миккель, – учитывая естественное стремление к прекрасному, издавна пыталась использовать красоту для религиозного воздействия на прихожан. Это явное издевательство, но Нурланну не до свары. – Хорошо, – говорит он. – Хорошо. Об этом мы тоже поговорим. Только пойдемте отсюда! Вам хочется поиздеваться надо мной – пожалуйста. Но сейчас я плохой оппонент, сейчас со мной неинтересно. Уйдемте отсюда, и я постараюсь соответствовать... Циприан, подняв палец, важно произносит: – Не все одинаково приемлемо в новых ритуалах. Но сложность работы не пугает подлинных энтузиастов. – Папа, – говорит вдруг Ирма обыкновенным голосом. – Пойдем с нами. Это так просто. И они, больше не взглянув на него, легким шагом идут дальше к Туче. Несколько мгновений он смотрит им вслед, а затем бросается, охваченный жаждой схватить, остановить, оттащить. И вдруг вселенная вокруг него взрывается лиловым огнем. Он видит зеленую равнину под ясным синим небом, и купы деревьев, и какую-то старую полуразвалившуюся часовню, замшелую и опутанную плющом, и почему-то идет снег крупными белыми хлопьями. На фоне синего неба один за другим, подрагивая в каком-то странном ритме, проплывают: серьезный, сосредоточенный Циприан; задумчивая, очень хорошенькая Ирма; ехидно ухмыляющийся Миккель... И какой-то вкрадчивый полузнакомый голос шепчет ему на ухо: – Как ты думаешь, что это такое? Что ты видишь перед собой? – Я вижу свою дочь. – А еще что ты видишь? Расскажи, расскажи нам, это очень интересно. – По-моему, она повзрослела... Красивая стала девушка. – Рассказывай, рассказывай! – Циприан... Хорошая пара. Голос становится назойливым и крикливым. – Говори! Говори, Нурланн! Что ты видишь? Говори! Видение светлого мира исчезает, заволакивается тьмой, и в этой тьме возникает лицо Бруна, мокрое, свирепое, огромный орущий рот, раскачиваются в электрическом свете блестящие штыри антенн... – Говори, Нурланн! Говори! Говори, скотина!
Ранним утром в номер Нурланна врываются Лора и Хансен. Нурланн, измученный событиями прошлой ночи, спит одетый: как пришел накануне, как повалился на кушетку в чем был, так и заснул, словно в омут провалился. Лора и Хансен набрасываются на него и ожесточенно трясут. – Нурланн, боже мой, сделай что-нибудь! – стонет Лора. – Ирма ушла, оставила записку, что никогда не вернется... Боже, за что мне это? За какие грехи? – Нурланн, надо что-то делать, – хрипит мучительно трезвый Хансен. – Дети ушли! Все! В городе не осталось ни одного ребенка. Да черт же тебя возьми, проснись же! Пьян ты, что ли? Нурланн садится на кушетке. Он и в самом деле словно пьяный: его пошатывает, глаза не раскрываются, лицо опухло, волосы встрепаны и слиплись. – Я боюсь, Нурланн, – ноет Лора. – Сделай что-нибудь! Я ничего не понимаю... Почему, за что? – Сволочи! – хрипит Хансен, бегая по комнате. – Сманили детей! Но это им не пройдет. Хватит, кончилось мое терпение. Кончилось! Да поднимайся же ты, нашел время дрыхнуть! – Ну хорошо, хорошо... – бормочет Нурланн, растирая лицо ладонями. – Сейчас. Дайте штаны надеть. Где здесь у меня штаны? А! Да что случилось-то, в самом деле? – Он грузно поднимается на ноги. – Что вы раскудахтались? – Дети ушли из города! – орет Хансен. – Увели наших детей!
Когда пятьдесят лет назад детей уводили из города, это было так. Тянулась бесконечная серая колонна. Дети шли по серым размытым дорогам, шли спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры как бы без лиц – железные отсвечивающие каски, руки, затянутые в черные перчатки, лежали на автоматах, и дождь лил на вороненую сталь, и лаяли иноземные команды, и лаяли мокрые иноземные псы...
– Чепуха! – говорит Нурланн, тряся головой и зажмуриваясь. – Это совсем не то... – Да очнись ты, черт тебя подери! – орет Хансен. – Их Туча заманила! Туча их сожрала, ты понимаешь? – Погоди, – говорит Нурланн. – Надо без паники. Погоди. – У тебя оружие есть? – спрашивает Хансен. – Пистолет какой-нибудь, автомат... Хоть что-нибудь? – Какое оружие, дурак, – огрызается Нурланн. – При чем здесь оружие?
Лимузин Нурланна с трудом пробирается между брошенными как попало многочисленными автомобилями. За рулем Нурланн, рядом с ним истерически рыдающая, вся перемазанная расплывшейся косметикой Лора, на заднем сиденье озверелый Хансен. Дальше ехать невозможно, и все они выбираются наружу. Кажется, весь город собрался здесь, плотно закупорив проспект Реформации, он же Дорога чистых душ. Тысячи людей, мокрых, жалких, растерянных, озлобленных, недоумевающих, плачущих, кричащих, с закаченными в обмороке глазами, оскаленных. Утонувшие в толпе автомобили – роскошные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы, автокран, на стреле которого сидят несколько человек. И льет дождь. Да такой, какого Нурланн не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что бывают такие дожди, – тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер несет его косо, прямо в лица, обращенные к еле видной черноте впереди, к мутным медленным лиловым вспышкам. Толпа кричит, плачет, стонет, угрожает: – Господи, за что? В чем согрешили мы, Господи? – Идиоты! Слюнтяи! Давным-давно надо было их за ухо – и вон из города! Говорили же умные люди... – В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, босяками ходили, лишь бы их одеть-обуть... – Сим, меня сейчас задавят! Сим, задыхаюсь! Ох, Сим... – Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там! – Они давно собирались, я видела, да боязно было спрашивать... – Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка! – Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Надо же что-то делать! – Да я его в жизни пальцем не тронула! Я видела, как вы своего-то ремнем гоняли. А у нас в доме такого и в заводе не было. – В кр-р-ровь! Зубами рвать буду! – Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас в эту Тучу ушли... Да брось ты, сами они ушли, никто их не притягивал... – Муничек мой! Муничка! – Надо телеграмму господину президенту! Десять тысяч подписей – это вам не шутка! – Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими и распоряжаться буду, как пожелаю. Извольте их мне вернуть! И тут раздался Голос. Он как шелестящий гром. Он идет со всех сторон сразу, и он сразу покрывает все остальные звуки. Он раздается как бы в мозгу у Нурланна, но тут же замирает и затихает вся толпа. Голос спокоен и даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышится в нем, безмерная снисходительность, будто говорит кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорит через плечо, оторвавшись на минутку от важных забот ради этой раздражившей его, наконец, пустяковины. – Да перестаньте вы кричать, – произносит Голос. – Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственной воле, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот, не одурманивал и не затягивал. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Пока Голос говорит, дождь затихает, а потом прекращается вовсе, и черная стена Тучи, полосуемая медлительными молниями, становится видна совершенно отчетливо. И неподвижно стоит перед нею толпа. Люди словно боятся пошевелиться. – Вы очень любите подражать своим предкам, – продолжает Голос, – и полагаете это важным человеческим достоинством, а они – нет. Не хотят они подражать вам. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, скучными обывателями, рабами, конформистами, не хотят они, чтобы из них сделали преступников против Человечества, не хотят ваших семей и вашего государства. Поглядите на себя! Вы родили их на свет и калечили их по образу своему и подобию. Подумайте об этом. А теперь – уходите. Толпа остается неподвижной. Может быть, она пытается думать. А у Нурланна в мозгу вспыхивают только отдельные странные и страшные картинки – собственные воспоминания вперемежку с виденным в кинохронике: ...огромное лицо отца и огромная рука его, тянущаяся с угрозой и злобной яростью... ...кучки наркоманов под мостом, жуткие морды вместо лиц, шприц вонзается в бедро прямо сквозь джинсы... ...дряхлый трясущийся Гитлер вручает железный крест мальчишке-смертнику, ласково треплет его по щечке... ...несметные толпы подростков, бессмысленно усеявших пустырь, словно огромная стая ворон на помойке... ...и подростки-фанаты, с ревом громящие стадион... ...и крепенькие румяные подростки в полувоенной форме, в золотых рубахах до колен, подпоясанные армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, с массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами – эмблема на пряжке, эмблема на дубинке, эмблема на румяной морде – и значки, значки, значки... ...и сам Нурланн омерзительно, потеряв контроль над собой, орет на молодую еще Лору, а она орет на него, похожая на отвратительно красивую мегеру, и маленькая Ирма с ужасом и недоумением смотрит на них, забившись в угол с большой куклой... ...и какой-то молодой отец с кружкой пива у ларька – хлебает сам и дает отхлебнуть сынишке, который держится за его брючину... – Ну, что же вы стоите? – произносит Голос. – Пошли вон. Уходите! И черная стена Тучи толчком продвигается на толпу, разом прыгнув метров на пятнадцать. – Уходите! Уходите совсем из города! Города больше не будет! Убирайтесь, пока целы! И снова Туча делает огромный шаг на толпу.
Город прорвало как нарыв. Впереди, по обыкновению, драпают избранные, драпает магистратура и полиция, драпает промышленность и торговля, драпают суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф – все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, во вспышках фар спецмашин – рев стоит на проспекте, а гигантский фурункул все выдавливается и выдавливается, и когда схлынул гной, тогда потекла кровь – собственно народ, на огромных автобусах, на битком набитых грузовиках, в навьюченных «фольксвагенах», «тойотах» и «фордиках», на мотоциклах, на велосипедах, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставив позади свои дома, свои газоны, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступает армия. Идут вездеходы с офицерами, бронетранспортеры, огромные машины полевых штабов, полевые кухни, зачехленные «корсары»... Последними идут танки, с башнями, развернутыми назад, в сторону наступающей Тучи. И гремит над этим громадным бегством голос проповедника: – ...Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой... И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, – ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и г`олоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в тебе найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле...
К рассвету город опустел. Утро хмурое, но дождь прекратился. По пустому проспекту Реформации мимо мрачных домов с мертвыми окнами бредет нога за ногу Нурланн, растерзанный, небритый, взлохмаченный, с отрешенным лицом, с глазами, как бы устремленными внутрь. На асфальте проспекта, на тротуарах разбросано затоптанное тряпье, валяются раздавленные чемоданы, колесо грузовика лежит посередине мостовой, и тут же неподалеку – сам грузовик, перекошенный, с распахнутой дверцей, уткнувшийся в фонарный столб; и опрокинутая детская коляска; и остатки стойбища Агнцев, а на углу переулка и какой-то Агнец лежит, клетчатый, то ли мертвый, то ли смертельно пьяный. Нурланн равнодушно проходит мимо. Потом навстречу ему с садовой скамейки скверика поднимается взъерошенный Хансен, в руке у него наполовину опорожненная бутылка, глаза осоловелые, его шатает, и поэтому свободной рукой он сразу же вцепляется в локоть Нурланна. – Все убежали... – доверительно сообщает он. – То есть все удрали. До последнего человека. Пустой город. Представляешь? Нурланн ничего не отвечает. Похоже, он просто не слышит Хансена. А тот продолжает на ходу: – А я вот решил остаться и посмотреть все-таки. Ведь это будущее, Нурланн! Ведь мы же все его ждали. Мы все на него работали. И что же теперь? Удирать? Глупо! Пусть оно нас гонит. Ну и что? А мы не пойдем. Верно, Нурланн? Нурланн молчит. Хансен на ходу подкрепляется из бутылки. – Очень страшно, – признается он. – Просто мороз по коже – до чего страшно. Понимаешь, Нурланн? Будущее создается тобой, но не для тебя. Вот я ненавижу старый мир. Глупость ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. Но с другой-то стороны – что я без всего этого? Это же хлеб мой и вода моя! Новый мир – строгий, справедливый, умный, стерильно чистый... Ведь я ему не нужен, я в нем – нуль! Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать там будет нечего, ненавидеть будет нечего – тоска, смерть... И выпить мне там не дадут, ты понимаешь, Нурланн, они там не пьют, совсем! На каком-то перекрестке к ним присоединяется швейцар отеля. «Фольксваген» его поломался, стоит с задранным капотом. Швейцар, потный, злой, в форменной своей фуражке и без пиджака, в жилетке, ругательски ругается: – Да пропади они все пропадом! Сунул их в какой-то автобус, и сразу на душе полегчало. Главное, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, этот сервиз? «Саксонский фарфор, саксонский фарфор, голубые мечи...» Светопреставление наступает, а ей голубые мечи, видите ли! Дал я ей коленом под задницу толстую... А вы как же, господа? Не страшно? – Страшно, – говорит Хансен. Нурланн молчит. – И мне страшно. А с другой-то стороны, ежели подумать как следует, ведь от них не убежишь. Днем раньше, днем позже, а они тебя достанут. Мое меня не минует, вот что я вам скажу. И опять же: дети-то наши не испугались? Может, глядят сейчас на нас из-за этой стены черной и посмеиваются... А? Они идут и идут, черная стена Тучи все ближе и ближе, сейчас она абсолютно черная, на ней нет даже молний, и пустыми окнами смотрит на них город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, – и от него идет пар. Из бокового переулка выскакивает на большой скорости, едва не перевернувшись, желтая машина во всей своей красе – с фарами, мигалками и антеннами – и резко тормозит перед идущими. Из кабины выскакивает Брун, как всегда подтянутый, резкий, решительный. – В чем дело? – спрашивает он свирепо. – Почему вы здесь? – Идем туда, – важно отвечает швейцар. – Куда – туда? Вы что – с ума сошли? – Тебя не спросили, – неприязненно произносит Хансен. – Проезжай, чего встал? Брун бешеными глазами оглядывает каждого из них по очереди. – Предатели, – говорит он сквозь зубы. – Подонки. Нурланн ни с того ни с сего вдруг широко улыбается. – Бедный прекрасный утенок, – говорит он. – До чего же хлопотно тебе жить! Все суетишься, все бегаешь, совершаешь глупости, совершаешь жестокости, и все тебе кажется, что ты тормозишь будущее. А на самом деле ты тоже его строишь, тоже кладешь свои кирпичики. Пойдем с нами, Брун. Пришла пора расплачиваться. – Идиоты! – шепчет Брун побелевшими губами, прыгает обратно в машину и с силой захлопывает за собой дверцу.
И вот они стоят перед черной стеной, все трое, и всем им страшно, а швейцар монотонно читает вполголоса: – И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч... и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей... хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай... и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными... Черная стена надвигается и поглощает их.
Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой: неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей; груды железного хлама – сплющенные ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, бесформенные комки колючей проволоки между покосившимися гнилыми кольями, и тут же заплетенный плющом огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки; клочья бумаги и раскисшие папки, и огромный том энциклопедии, страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними – полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом... И над всем этим – ослепительно-синее небо, а над горизонтом медленно поднимается сплющенный рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина, и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурланна. И Нурланн начинает говорить, еле шевеля губами: – Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы. Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости. Пока он говорит, по сторонам от него, справа, слева, везде, из густой травы один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные, мужчины небриты, женщины взлохмачены. Поднявшись, они стоят неподвижно и слушают, и смотрят на Нурланна с надеждой и ожиданием. – Мы поносили тебя, – продолжает Нурланн. – Мы восхваляли тебя. Мы унижали тебя. Мы мастерили тебя по образу своему и подобию. Мы распоряжались друг другом, мы приказывали, мы горланили и галдели, и пустословили от твоего имени. Мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое. Все мы клялись умереть за будущее, но умирать норовили в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам наконец встретиться с тобой лицом к лицу... И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном: не карай! Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят. Они вообще не думали о тебе. Милосердия! Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня. И если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз. Он замолкает. И тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег. С чистого ясного неба, на котором ни облачка, медленно падают, кружась, крупные белые хлопья – на зеленую траву, на цветы, на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица. И новый звук возникает: глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники. Циприан, повзрослевший, с молодой русой бородкой. Он в белых парусиновых штанах, белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремена, левой рукой он держит поводья, а правая уперта в бок. И конь под ним белый как снег. Ирма Нурланн на рыжем коне, крепкая красивая девушка с цветком в зубах, в оранжевом рабочем комбинезоне, скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями большая зеленая стрекоза. Миккель в черных трусах, голый до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву, а в другой у него сверкающая золотом труба. В неспешной рыси они проплывают мимо. Они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных (многие встали на колени) людей. Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком. Ирма занята своей стрекозой – слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони. У Миккеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается... ...и вдруг подносит трубу к губам и трубит – звонко, чисто и сильно. Солнце уже высоко, и снег прекратился, и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников. Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.
|
|
© "Русская фантастика", 1998-2003
© Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, текст, 1986 © Дмитрий Ватолин, дизайн, 1998-2000 © Алексей Андреев, графика, 2001 |
Редактор: Владимир Борисов
Верстка: Владимир Борисов Корректор: Владимир Дьяконов |